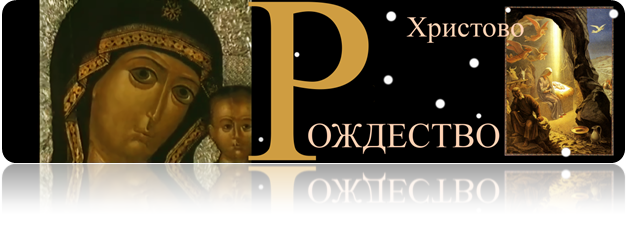1 Крестное Время Иисуса Христа 2 ВВЕДЕНИЕ. 1 век
Климент Римский
Св. Кли́мент I (лат. ClemensRomanus I), родился в 1 веке н.э., умер — 97\99\101. Апостол от семидесяти. Он был четвёртым епископом Рима в 90-е гг.
О жизни Климента Римского почти ничего неизвестно. Некоторые историки предполагают, что по происхождению Климент Римский был евреем.
|
Содержание 1 Биография 2 Почитание 3 Сочинения 3.1 Первое послание к Коринфянам 3.2 Подложные сочинения 4 Литература 5 Примечания 6 Ссылки 7 О подлинности Апостольских Постановлений св. Климента Римского 8 Сидоров А. И. Курс Патрологии. Глава II. СВ. КЛИМЕНТ РИМСКИЙ
|
Есть предание, что Климент Римский — одно лицо со священномучеником Климентом, принявшем смерть в Херсонесе. По преданию, около 98 года он был сослан из Рима в Инкерманские каменоломни (район современного Севастополя), где проповедовал и встретил мученическую смерть. Его мощи были перенесены в Рим равноапостольными Кириллом и Мефодием. он
Возможно, он лично и не писал о Рождестве, но документы, которые Климент собирал, свидетельствуют о том, что почитание Господских дней, так или иначе, существовало уже в апостольское время:
«Рабы пусть работают пять дней, а в субботу и в день Господень пусть пребывают в церкви ради учения благочестия; ибо суббота, сказали мы, имеет образ создания, а день Божий — воскресения.
Во всю великую седмицу и в следующую за ней да не работают рабы; потому что та есть седмица страдания, а эта воскресения, и нужно поучаться, Кто пострадавший и воскресший, и Кто попустил страдать и воскресил.
В Вознесение да не работают, потому что оно — конец домостроительства о Христе.
В Пятидесятницу да не работают, потому что тогда пришел Дух Святой, дарованный уверовавшим во Христа.
В праздник Рождества Христова да не работают, потому что в оный дана людям нечаемая благодать — рождение Слова Божия Иисуса Христа от Девы Марии на спасение мира.
В праздник Богоявления да не работают, потому что в оный последовало явление Божества Христова, когда при погружении свидетельствовал о Нем Отец и Утешитель в виде как голубя показал предстоящим Свидетельствованного.
В день Стефана первомученика и прочих святых мучеников, предпочетших Христа жизни своей, да не работают». (Климент Римский. Писания мужей апостольских. Книга VIII О дарованиях, рукоположениях и канонах церковных)
«34. [9] Молитвы совершайте вы утром и в третьем часу, и в шестом, и в девятом, и вечером и в петлоглашение: утром, благодаря, что Господь осветил вас, преведши ночь и наведши день; в третьем часу потому, что тогда Господь принял осуждение от Пилата; в шестом потому, что тогда Он распят; в девятом потому, что когда распинали Владыку, все поколебалось, трепеща дерзости нечестивых иудеев, не снося поругания Господа; вечером, благодаря, что Он дал нам ночь для упокоения от дневных трудов; в петлоглашение же потому, что время это благовествует приход дня для делания дел света». (Св. Климент Римский. Писания мужей апостольских. Книга VIII. О дарованиях, рукоположениях и канонах церковных).
В перечне праздников отсутствует Сретенье, Благовещение, Преображение, но это вовсе не значит, что они не почитались, ибо у Кирилла Иерусалимского есть слово, написанное в честь Сретенья. Святой Кирилл, архиепископ Иерусалимский, в 350 году после смерти архиепископа Максима стал его преемником на Иерусалимской кафедре. Он пишет не только о Пасхе, но и Сретении (Слово на Сретение Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, и на Симеона Богоприимца).
«1. Радуйся зело, дщи Сионя (Зах. 9, 9): проповедуй радость, дщи Иерусалимля: ликуйте людие града Божия (Пс. 47, 2): взыграйте врата и стены Сиона, и вся земля: возопийте горы (Ис. 44, 23), и холми в восторгах взыграйте (Пс. 113, 6): реки восплещите руками (Пс. 97, 8), и людие Сион обыдите (Пс. 47, 13), видя в нем пришествие Бога. Да соединят свой ныне глас небесные жители с земными, и да воспоет горний с дольным Иерусалимом: ибо здесь Христос Небесный и земный пребывает. Окрест Небесного, умные Силы ликуйте: земного, земнородные со Ангелами воспойте.
2. Ибо ныне явися Бог богов в Сионе (Пс. 83, 8): ныне преславная глаголашася о тебе, граде Божий (Пс. 86, 3) Иерусалиме граде Царя великаго (Пс. 47, 3). Отверзи (Пс. 23, 7) врата Тому, Кто всем отверз врата небесные, и отворил всем райские двери Тому, Кто отверз врата гробные (Мф. 27, 12) на Кресте (вися), кто сокрушил адовы (Пс. 106, 16; Иов 38, 17) вереи вечные и заключил преславно девические двери. Ныне Тот, кто древле с Моисеем беседовал на горе Синайской Боголепно (Исх. 20, 1), исполняет закон, под законом бывая (Гал. 4, 4) раболепно. Ныне Бог от Фемана (Авв. 3, 3) в Сион приходит: ныне Жених Небесный, с Богоматерним чертогом, во храме является. Дщери Иерусалима (Песн. 3, 11), изыдите в сретение Ему. Светильники светло свету истинному возожгите: ризы душевные Жениху Христу (Мф. 25, 6) благоукрасите.
3. С Cиoном людие языков, светильники нося, изыдем во сретение: внидем во храм, купно со Храмом, Который есть Бог и Христос. Со Ангелами воскликнем песнь Ангельскую: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Его (Ис. 6, 3): полны концы мира благости Его, исполнена вся тварь хвалы Его: исполнено все человечество снисхождения Его. Небесная, земная и преисподняя, полны суть благоутробия Его: полны милости Его, полны щедрот, полны даров, полны благодеяний Его.
4. Итак, вси языцы восплещите руками (Пс .46, 2): все концы земли приидите и видите дела Божия (Пс. 66, 5). всякое дыхание да хвалит Господа (Пс. 150, 6), вся земля да поклонится (Пс. 66, 4), и всяк язык да поет, всяк да воспевает, всяк да славословит Отроча Бога, четыредесятидневного и предвечного: Отроча малое и ветхое деньми (Дан. 7, 9): Отроча ссущее и Творца веков (Евр. 1, 2). Младенца вижу, Бога моего познаю: Младенца ссущего, и мир питающего: Младенца плачущего, и миру жизнь и радость дарующего: Младенца повиваемого, и меня от пелен греховных избавляющего: Младенца в объятиях матерних, с плотию истинно, и неотлучно, на земли: и Того же в недрах Отчих, истинно и неотлучно на небесех.
5. Младенца вижу от Вифлеема во Иерусалим входящего, и никак от горнего Иерусалима не отлучающегося. Младенца вижу по закону во храме жертву приносящего на земли: и Того же на небесах приемлющего благочестивые всех жертвы: Сего на руках старца по смотрению, и Того же на Херувимских престолах Боголепно (Пс. 79, 2): Сего приносимого и очищаемого, и Того же вся освящающего и очищающего. Сам дар, и Сам храм есть: Сам Архиерей, Сам жертвенник, и Сам очистилище, Сам и преносящий, Сам и приносимый за мир в жертву, Сам и древо жизни и ведения (Быт. 2, 9). Сам Агнец, и Сам огнь: Сам всесожжение (Быт. 22, 6, 7, 9, 10, 13), . Сам и нож духовный (Еф. 6, 17): Сам и Пастырь, Сам и овча: Сам жрец, и Сам жремый: Сам приносимый, и Сам жертву приемлющий: Сам закон и Сам ныне под законом бывающий (Гал. 4, 4).
6. Но послушаем о дни сем и от Священных Евангелий. Ибо дивный Лука о Христе сказал: яко егда исполнишася дние очищения его по закону Моисеову, вознесоста Иисуса во Иерусалим, поставити Его пред Господем, якоже есть писано в законе Господни: яко всяк младенец мужеска полу, разверзали ложесна. Свято Господеви наречется (Лк. 2, 22, 23). Хотя и Самуил, и Исаак, и вместе Иаков, также Иосиф, и другие, родившиеся от неплодства сверх надежды, и разверзшие неплодные ложесна матерей. Святи Господеви нареклися: но Христос, Един (Единого Отца Единородный Сын) от Единые Девы родившийся, и Девственных врат не разверзший, не только Свят Господеви, но Святый Святых (Дан. 9, 24), и Господь господей (1 Тим. 6, 15), и Бог богов, и Первороден первородных, и Князь князей, и Царь царствующих (Апок. 19, 16), и наречется, и верою исповедан будет, и покланяем будет, и ныне во Храме от Симеона проповедан будет».
На основе доказательств, приведенных здесь, мы с вами можем утверждать, что Рождество Христово, как и другие Господские праздники отмечали и во времена Климента Римского. Естественно, не в том виде, как теперь, но понятие праздника Рождества современники Апостолов и Климента уже имели. Даже, если предположить Рождество Христово позднейшей вставкой, то и тогда мы не вправе утверждать, что она была сделана позднее 3-4вв.
Однако, у нас нет основания говорить, что перед нами вставка позднего времени, ибо существуют и другие свидетельства того, что праздновали дни Господни уже Апостолы. Так Иоанн Богослов отмечал дни воскресения Иисуса Христа вместе с евреями. О том написано у Евсевия Кесарийского.
«Главой асийских епископов, настаивавших на том, что следует соблюдать издревле переданный обычай, был Поликрат. В письме к Виктору и к Римской Церкви он так говорит о предании, дошедшем до его времени:
(2) Мы строго соблюдаем этот праздник, мы ничего не прибавляем, ничего не убавляем. В Асии покоятся великие светила веры, которые восстанут в день пришествия Господня, когда Он во славе сойдет с небес и разыщет всех святых: Филиппа, одного из двенадцати, который покоится в Иераполе, двух дочерей его, состарившихся девственницами, и еще одну его дочь, жившую в Духе Святом, почивающую в Эфесе;
(3) Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, бывшего священником и носившего дщицу, свидетеля и учителя,
(4) который почивает в Эфесе; и Поликарпа Смирнского, епископа и мученика, и Фрасею, епископа и мученика Эвменийского, который покоится в Смирне.
(5) Говорить ли о Сагарисе, епископе и мученике, который покоится в Лаодикии, о блаженном Папии, Мелитоне евнухе, целиком жившем в Духе Святом, почивающем в Сардах, ожидая пришествия с небес и воскресения из мертвых.
(6) Все они праздновали Пасху в четырнадцатый день (лунного месяца) по Евангелию, ничего не преступая и следуя правилу веры». (Евсевий Кесарийский ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ. ПЯТАЯ КНИГА)
«(16) Блаженный Поликарп был при Аникете в Риме; кое в чем они слегка не ладили, но тут же заключали мир, об этом же главном вопросе и спорить не хотели; ни Аникет не мог убедить Поликарпа оставить то, что всегда соблюдали Иоанн, ученик Господа нашего, и остальные апостолы, с которыми Поликарп общался; ни Поликарп Аникета, говорившего, что он обязан соблюдать обычай своих предшественников.
(17) Тем не менее, они пребывали в общении друг с другом; Аникет, из уважения, конечно, предоставлял Поликарпу совершать в его Церкви Евхаристию, и они расстались а мире друг с другом и в мире со всей Церковью соблюдавших и не соблюдавших». (Евсевий Кесарийский ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ. ПЯТАЯ КНИГА).
По свидетельству Евсевия Кесарийского Апостолы и приемники Апостолов праздновали изначально дни Господни. Если бы не праздновали спонтанно, то и не возникло бы споров о праздновании Пасхи.
Из 3й книги Иринея Лионского Против ереси: «(3) Поликарп не только слушал наставления апостолов и общался со многими, кто видел Господа, но и в епископы Смирнской Церкви в Асии поставлен апостолами».
Есть еще одно любопытное свидетельство о праздновании дней Господних святыми первых веков.
Мелитон Сардийский (2век) писал не только о значении Воскресения и Пасхи Христа, но и о празднике Пасхи.
«6. И вот, заклание овцы и пасхальное празднество и писание закона — заключены во Христе, через Которого было все в древнем законе, но еще более — в новом слове». «Мелитон Сардийский О Пасхе».
Так что мы со спокойной совестью можем говорить о праздновании дней Господних во времена Климента Римского и доказательства о подлинности Апостольских Постановлений св. Климента Римского нам только помогают в поиске
Св. Климент Римский. Постановления апостольские изреченные в восьми книгах.
О подлинности Апостольских Постановлений св. Климента Римского
Сочинение под названием Постановления Апостольские – несомненно древнейший памятник христианской письменности, непосредственно восходящий к эпистолярному наследию и проповеди святых Апостолов. Его авторство приписывается св. Клименту епископу Римскому, имя которого принадлежит к самым славным и почитаемым именам христианской древности.
Епископ Римский Климент, по происхождению римский язычник, к вере во Христа был обращен апостолом Петром, а затем сделался одним из ближайших в проповедании веры сотрудников учителя языков апостола Павла. Именно его называет апостол одним из своих споспешников, имена коих написаны в книгах животных (Филип. 4:3, сн. Деян. 16:39). Древние церковные писатели единодушно называют Климента мужем апостольским, и св. Ириней Лионский свидетельствует, что он обращался с блаженными апостолами и жил между ними, был ими наставляем, слушал их проповедь, и их предания были пред его взорами1 .
По свидетельствам св. Иринея и церковного историка IV века Евсевия епископа Кесарийского2 св. Климент вступил в управление Римской церковью с 12 года царствования Домициана (с 92 г. по Р. Х.) и епископствовал там до 3 года царствования Траяна или до 101 г. по Р. Х. При Траяне он сослан был за имя Христово в город Херсонес Таврический, где словом веры утешал христиан, сосланных, как и он, за веру на тяжелые работы, чудесами обратил многих язычников ко Христу и скончался мученически. Впоследствие св. мощи сего апостольского мужа чудесным образом были обретены и перенесены из Херсонеса в Рим святыми Кириллом и Мефодием.
Помимо “Апостольских Постановлений”, с именем св. Климента связаны также и другие сочинения, автором которых он считается. К числу несомненно принадлежащих ему относят: 1-е и 2-е Послания к Коринфянам, собрание 85-ти правил Апостольских, два окружных Послания к девственницам. Известны также приписываемые ему Омилии (в числе 20-ти), сочинение Свидания в 10-ти книгах, сокращение Деяний апостола Петра, пять Посланий каноническо-дисциплинарного содержания и Послание Климента к Иакову; однако подлинность их по разным причинам оспаривается.
Полное название сочинения Апостольские Постановления – Diatgai twn agiwn aposolwn dia Klhmenioz iou Rwmaiwn episkopou te kai politou(“Постановления святых Апостолов чрез Климента, епископа и гражданина Римского”), которое в 85 правиле св. Апостол именуется “Восемью книгами Постановлений Апостольских чрез Климента для епископов” (ai diatagai umin toiz episkopoiz ai emou Klhmentoz en oktw biblioiz prospejwnhmena). Первые шесть книг Постановлений озаглавлены с именем Учения(didaskalia=дидаскалия), а 7-я и 8-я книги названы собственно Постановлениями(diataai) и составляют как бы особый отдел. Однако, внутренняя композиция и стиль написания всей книги свидетельствуют о том, что и учение и постановления были написаны одним автором.
Из полного наименования “Апостольских Постановлений” ясно, что св. Климент Римский выступает в них не как непосредственный сочинитель, а как собиратель и компилятор апостольских преданий и установлений, записанных чрез него и им преданных для последующих поколений епископов. Поэтому утверждение современной патрологической науки о том, что автором “Апостольских Постановлений” не мог быть св. Климент, теряет объективную ценность, поскольку вопрос авторства необходимо перенести в иную плоскость разсуждений. Следует, однако, сразу же подчеркнуть, что отнесение этого сочинения к периоду не ранее III и не позднее V веков, выглядит крайне неосновательно и надуманно.
В основе “Постановлений Апостольских” мы, без всякого сомнения, имеем собрание установлений и учений, провозглашенных как устно, так и письменно на так наз. Апостольском Соборе, о обстоятельствах проведения которого дается краткое описание в Деяниях апостольских (Деян. гл. 15). Собор этот, в котором участвовали “апостолы и пресвитеры со всею церковию” (Деян. 15:22), состоялся ок. 49-50 гг. в Иеросалиме по поводу нестроений, возникших в Антиохийской церкви из-за споров о необходимости обрезания и соблюдения обрядовых законов для христиан (Деян. 15:24). Дееписатель между прочим сообщает, что апостолы, по окончании Собора, “когда проходили по городам, предавали им (верным) соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иеросалиме” (Деян. 16:4). Отсюда ясно, что Иеросалимский Апостольский Собор, помимо разрешения споров об обрядовом законе, мог преподать и, по всей видимости, действительно преподал всей Церкви и другие общие установления касательно христианского благочестия, священнического служения, богослужебных уставов и церковных законов, которыми мы и располагаем в виде дошедшего до нас сборника “Постановлений Апостольских”3.
В самих “Апостольских Постановлениях” мы также находим подробные сведения о Апостольском Соборе в Иеросалиме и, прежде всего, о составе его участников и распоряжениях относительно изданных им постановлений. Главная причина собрания та же, о которой сообщается и евангелистом Лукой: нестроения в Антиохийской церкви. “Из-за них-то собравшись теперь вместе, – говорится в климентовых Постановлениях, – мы, Петр и Андрей, Иаков и Иоанн, сыновья Зеведеевы, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, и Симон Кананит и Матфий, причисленный к нам вместо Иуды, также Иаков, брат Господень и епископ Иеросалимский, и Павел, учитель язычников, избранный сосуд, собравшись все вместе, написали вам это кафолическое учение для утверждения вас, которым вверено повсюдное епископство” (VI:14). Далее сообщается о вручении этих постановлений св. Клименту: “Вам, епископам и прочим священникам достойно и праведно оставили это кафолическое учение, чтобы оно служило памятником утверждения поверивших Богу, и послали оное чрез сослужителя нашего Климента, вернейшее и единодушное чадо наше о Господе, вместе с Варнавою и вожделеннейшим сыном Тимофеем и истинным сыном Марком, с которыми делаем вам известными и Тита, Луку, Иасона, Лукия и Сосипатра” (VI:18).
Но исходя из общего содержания текстов “Апостольских Постановлений”, нельзя не признать, что окончательная редакция их, в том виде, какую мы имеем в употреблении в настоящее время, была выполнена не ранее второй половины II века. На это, прежде всего, указывает упоминание в шестой книге еретиков, живших во II веке, таких как Марк, Менандр, Василид и Саторнил (VI:8). По мнению изследователей в “Апостольских Постановлениях” имеются и другие следы поздней редакции, – например, использование текстов Евангелий и посланий апостольских, создание которых (за исключением одного Евангелия от Матфея) датируется после 50 года4.
Таким образом, фактическая сторона дела убеждает нас в том, что “Апостольские Постановления” в целом представляют собою единый компилятивный свод, состоящий из:
1) Деяний, постановлений, учений Апостольского Собора в Иеросалиме;
2) Отдельных апостольских постановлений и учений, собранных и внесенных позже св. Климентом;
3) Наконец, текстов (вставок), добавленных уже по смерти св. Климента во II веке или его непосредственными преемниками на Римской кафедре, или же (что наиболее вероятно) одним из Соборов, состоявшихся в период с конца II – начала III века.
Всё же, несмотря на очевидную компилятивность данного свода апостольских учений и постановлений, редакцию над ним, возможно, нескольких авторов, – всё это нисколько не умаляет ни канонического достоинства текста “Апостольских Постановлений”, ни его богодухновенности, хотя современная патрологическая наука, под влиянием западной схоластики и протестантского рационализма, упорно настаивает на его подложности5. Попробуем обосновать свое суждение.
Прежде всего, несомненен тот факт, что “Постановления Апостольские” были известны в древней Церкви до IV века и имели там распространение и почитание. На это, главным образом, указывает 85 правило св. Апостол, в котором в ряд “чтимых и святых книг” Священного Писания Ветхого и Нового Заветов включены и “постановления, вам, епископам, мною, Климентом, изреченныя в осми книгах, которые не подобает обнародовати пред всеми ради того, что в них таинственно”. Последнее предписание указывает, впрочем, на узкое употребление постановлений лишь в среде епископата и клира и на неоглашение их народу во время богослужений. Возможно, именно этим объясняется то, что “Апостольские Постановления” не получили столь широкого распространения в древности, как оное получили, например, другие апостольские писания. Однако, “Апостольские Постановления” дошли до нас в древних переводах (хотя и имеющих между собою некоторые расхождения) на многие языки: известны латинские, греческие, сирийские, арабские и эфиопские кодексы, что может свидетельствовать о достаточной распространенности сборника в древнехристианском обществе.
В начале III века св. Ипполит Римский использовал “Апостольские Постановления” для составления подобного же компилятивного сочинения под названием “Апостольское Предание”, а также правил, известных под названием “канонов св. Ипполита”, в которых многое заимствовано из известных “Постановлений”. В IV веке св. Епифаний Кипрский в своих сочинениях приводит места из шести книг “Апостольских Постановлений” и свидетельствует, что “хотя некоторыми не принимаются они, но нельзя и вовсе отвергать их; поелику в них содержится много относящегося до благочиния церковного и ничего, что бы нарушало веру, ее исповедание, церковный порядок и каноны”6. Считается также, что приблизительно четверть содержания гл. 47-й 8-й книги “Апостольских Постановлений” использована при составлении канонов Антиохийским Собором 341 г.; а Отцы I и II Вселенских Соборов руководствовались кодексом “Постановлений” при составлении Символа Веры, буквально заимствуя некоторые формулировки из Апостольского Символа, изложенного в 6-й книге, и из других мест сборника (VI:11,30; сн. VII:41; VIII:1). Литургия, приведенная в 8-й книге, послужила основанием для литургических последований св. Василия Великого и св. Иоанна Златоустого; многие молитвы сборника и доныне употребляются в церковном богослужении, хотя и в несколько измененном виде. В V веке св. Прокл патр. Константинопольский в “Слове о предании божественной литургии” свидетельствовал, что многие из преемников св. апостолов, оставив письменное изложение таинственной литургии, предали Церкви, и из них, прежде всего, “блаженный Климент, ученик и преемник верховного из апостолов, как предали ему святые апостолы и божественный Иаков, получивший по жребию Церковь Иеросалимскую”.
В начале VI века извлечения из 6-книги Учений делает пресв. Тимофей; во второй половине VII века преп. Анастасий Синаит в книге “Вопросы и ответы” дает большие выдержки из “Постановлений”, а в середине VIII века преп. Максим Исповедник приводит выдержки из 7-й книги. Наконец, Кормчая патр. Иосифа, служившая каноническим руководством в Русской Церкви в XVII веке, содержит 17 канонов ап. Павла, 17 канонов апп. Петра и Павла (5 из них, впрочем, принадлежат не им, а ап. Иакову), а также 2 канона “всех святых апостолов купно”, заимствованные непосредственно из 8-й книги “Апостольских Постановлений”. Сии же “Постановления” до сих пор входят в канон эфиопской Библии. Все это свидетельствует о том высоком авторитете, коим пользовался сборник в Православной Церкви на протяжении длительного времени. На это указывает существовании множества древних рукописей “Апостольских Постановлений”, начиная с X до XVI века.
Одним из главных доводов против подлинности “Апостольских Постановлений” служит 2-е правило Трулльского Собора 691-692 гг., бывшего в Константинополе (именуемого Пято-Шестым Вселенским): “Так как в этих (апостольских) правилах повелено нам принимать тех же святых Апостолов постановления, чрез Климента преданные, в которые некогда иномыслящие ко вреду Церкви привнесли нечто подложное и чуждое благочестия и помрачившее для нас благолепную красоту Божественного учения, то мы ради назидания и ограждения христианнейшей паствы эти Климентовы постановления благоразсмотрительно отвергли (apobolhn pepoihmea), отнюдь не допуская порождений еретического лжесловесия и не вмешивая их в чистое и совершенное апостольское учение”. На Западе “Апостольские Постановления” были отвергнуты ранее папой Геласием I (492-496), которым был обнародован Decretum de libris recipiendis et non recipiendis (“Декрет о книгах принимаемых и отвергаемых”). В сем Декрете, получившем утверждение на Римском Соборе в 494 г., “Книга, называемая Установления Апостолов”, помещена среди отверженных.
Неизвестно, что конкретно выдвигали Отцы Трулльского Собора против ортодоксальности “Апостольских Постановлений” и в какое время, по их мнению, и кем именно из еретиков была туда привнесена порча. Можно лишь констатировать, что в изначальной подлинности Климентова сборника у них сомнений не возникало, что тоже немаловажно. По этому поводу известный сербский канонист еп. Никодим (Милаш) говорит, что Трулльский Собор данным правилом “не отрицает решительно значения этих постановлений, так как признает, что их основание составляет “благолепная красота божественного учения””.7
Впрочем, об аргументации Трулльского Собора можно с относительной верностью судить по критике “Апостольских Постановлений” Константинопольским патриархом св. Фотием (857-867, 877-886), который в своем сочинении “Bibliotheca” писал: “Постановления Апостольские подлежат порицанию по трем причинам: во-первых – за худой вымысел, который, впрочем, не трудно отличить; во-вторых – за оскорбительные отзывы о Второзаконии, которые еще легче устранить; и, в-третьих – за арианство, которое может отбросить в них каждый”8. Рассмотрим доводы патр. Фотия более подробно.
Итак, “Апостольским Постановлениям” вменяется “худой вымысел”. Возможно, здесь имеется в виду участие в Иеросалимском Соборе ап. Иакова Зеведеева (VI:14), который, по повествованию книги Деяний апостольских, был усечен мечем, по повелению Ирода, прежде нежели составился этот Собор (Деян. 12:1.2). Но на одном только этом основании нельзя считать подложным весь сборник. Имя ап. Иакова могло быть внесено по ошибке последующими переписчиками “Постановлений”, или же, имея в виду компилятивный характер сборника, в который вошли не только деяния Иеросалимского Собора, но и вообще учения, преданные апостолами, имя ап. Иакова Зеведеева упоминается единственно по принадлежности ко всему апостольскому лику, от лица коего ведется повествование. К тому же в другом месте “Постановлений” говорится об ап. Иакове, как уже принявшем мученическую кончину (V:8). Следует также отличать ап. Иакова Зеведеева от ап. Иакова, брата Господня и епископа Иеросалимского. Последний тоже представляется участником Иеросалимского Собора (VI:14), в 7-й же книге постановлений о нем говорится, как об умершем (VII:46). Но и здесь противоречия не обретается, если учесть позднюю интерполяцию памятника, редактировавшегося не одним составителем. Неверно представление некоторых ученых о том, что упоминаемый среди “семи диаконов” во 2-й книге (гл. 55) архидиакон-мученик Стефан, объявляется современником обращения Савла, тогда как на самом деле Стефан окончил жизнь свою мученически прежде, нежели ап. Павел призван был к апостольскому служению. Но из указываемого места такого вывода сделать никак нельзя, ибо, хотя там речь идет как бы от лица 12-ти апостолов и ап. Павла, 72-х учеников и семи диаконов (“с полным убеждением говорим”), однако обо всех о них говорится лишь как о “свидетелях пришествия” Христова, коим несомненно являлся и Стефан, и как бы от лица всех этих свидетелей объявляется “совершенная воля Божия”. К тому же в иных местах сборника везде говорится об архидиаконе Стефане как о мученике (II:49, V:8, VI: 30, VIII:33).
Вторым доводом против подлинности сборника апостольских постановлений и учений патр. Фотий объявляет якобы “оскорбительные отзывы о Второзаконии”. Но остается совершенно непонятно, в чем именно патр. Фотий видит “оскорбительность” в суждениях “Постановлений” о Второзаконии, о котором идет речь в 1-й книге сборника. Во всяком случае, никак нельзя признать неправославным учение “Постановлений” о том, что Второзаконие было предано народу израильскому по причине его идолопоклонства и как дополнительные и тяжкие “узы”. Подобное же мнение о Второзаконии мы находим и у учителей церковных (блаж. Лактанций).
Третий довод патр. Фотия – это будто бы “арианские” учения, которые он усматривает привнесенными в памятник.
Подобное суждение также не имеет серьезного основания, хотя и высказывается многими изследователями. Архиепископ Филарет (Гумилевский), отец русской патрологии, не соглашается с этим и пишет, что “в тех же постановлениях встречаются и мысли вовсе не согласные с арианством; неопределенность же выражений о Сыне Божием не превышает той, какая видна у учителей первых трех веков”9. В “Апостольских Постановлениях”, действительно, не раскрывается положительное учение о Св. Троице, как оно было сформулировано к концу III – началу IV века, однако таковое учение со всей положительностью не раскрывается и в канонических новозаветных книгах. Тем не менее, никто не дерзнул бы их за это отвергать или считать еретическими. С другой стороны, Апостольский Символ находит созвучие с Правилом веры, приведенным в конце II века Тертуллианом10.
Известный русский богослов Н. П. Аксаков в связи с этим пишет: “Апостольские постановления сохранились до нас безспорно в весьма интерполированном виде; в этом согласны все старые и новые критики их. Но вопрос в том: кто были эти иномыслящие интерполяторы, в чем заключалось само их иномыслие и какого рода печать могли наложить они на первоначальный памятник? Мы оцениваем в настоящее время Апостольские постановления как канонический и литургический памятник, настоящая редакция которого, вероятно, принадлежит концу III века и не может быть отнесена позднее, чем к концу IV века. Все виды иномыслия этого периода нам совершенно знакомы. Тем не менее, можно смело сказать, что в нашем памятнике нет ни малейших следов ересей, касавшихся второго Лица Св. Троицы, включая и саввелианство и ересь Павла Самосатского”11. По мнению Аксакова в памятнике невозможно обнаружить также ни следов монтанизма, ни гностических заблуждений.
В таком случае, насколько может быть для нас авторитетным решение Трулльского Собора, если никаких серьезных аргументов против аутентичности и ортодоксальности “Апостольских Постановлений” не выдвигается?
Недоразумение по поводу постановления Трулльского Собора может быть легко устранено, если принять точку зрения проф. Н. Н. Глубоковского, который высказал предположение, что Трулльский Собор, отвергая “Апостольские Постановления”, имел дело с другой их редакцией, а не с той, которая дошла до нас12. Говоря о правиле Трулльского Собора, еп. Никодим (Милаш) считает, что, отвергнув климентов сборник, “собор лишь предупреждает интересующихся этими книгами, что книги эти, каковыми они были в их время, не могут служить руководством для епископов, а должны быть отвергнуты; однако собор не говорит, что их надо отвергнуть и тогда, когда они очищены будут от всего, что не строго православно в них (курсив наш). Что в этом смысле церковь понимала определение Трулльского собора, свидетельством служит множество рукописей этих постановлений из последующего времени, на основании чего можно заключить, что эти постановления употреблялись в практике церковной, конечно, очищенные от всего, что в них было неправославного”13.
Следует также напомнить, что Трулльский Собор (именуемый Пято-Шестым Вселенским) состоялся через 10 лет после окончания VI Вселенского Собора, участники которого разъехались сразу же после составления догматического определения. Именно Трулльский Собор утвердил (во 2-м правиле) каноническое законодательство, которым до сих пор руководствуется Восточная Церковь, однако на Западе всегда пользовались иным каноническим правом14 и решения Трулльского Собора не признавались. Занимавший тогда римскую кафедру папа Сергий отказался поставить свою подпись под деяниями Трулльского Собора и во все последующее время каноны этого Собора в западной Церкви авторита не имели15. Значение же Вселенского ему было придано только на Востоке по инициативе иператора Юстиниана II. Следовательно, само значение Трулльского Собора как Собора Вселенского остается под вопросом.
Как бы то ни было, нет убедительных оснований считать “Апостольские Постановления” книгой небогодухновенной и подложной. Более того, есть все причины, позволяющие данный сборник почитать книгой Священного Писания, входящей в канон Нового Завета, как сие и было обозначено 85-м правилом св. Апостолов. Высказанные же сомнения не могут служить препятствием к почитанию сей книги; ибо даже Св. Отцы некогда сомневались в богодухновенности некоторых книг 16, кои теперь входят в канон Нового Завета и признаются всеми христианами святыми и чтимыми.
Использованная литература:
1) Писания Мужей апостольских в пер. прот. П. Преображенского. СПб. 1895.
2) Архиепископ Филарет (Гумилевский). Историческое учение об Отцах Церкви. Т. 1. СПб. 1882.
3) Архимандрит Киприан (Керн). Патрология. Т. 1. Париж-Москва. Т. 1. 1996.
4) Цыпин В. А. Церковное право. М. 1996.
5) Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М. 1993.
6) Аксаков Н. П. Предание Церкви и предание школы. М. 2000.
7) Розанов В. В. Около церковных стен. М. 1995.
8) Стратилатов И. Древность и важность Апостольских правил. СПб. 1996.
9) Поснов М. Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Брюссель. 1964.
10) Скогорев А. П. Апокрифические Деяния Апостолов. Арабское Евангелие детства Спасителя. СПб. 2000.
11) Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, еп. Далматинско-Истрийского. Т. 1. СПб. 1911.
12) Деяния Вселенских Соборов. Т. IV. СПб. 1996.
13) Собрание древних литургий, восточных и западных. Вып. II. СПб. 1875.
14) Скабалланович М., проф. Толковый типикон. Вып. 1. Киев. 1910.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Сочинения св. Иринея еп. Лионского. СПб. 1900, стр. 222. Против ересей. III, 3.
2 Евсевий Памфил. Церковная история. М. 1993. Кн. III, 15, 34, стр. 95, 112.
3 В ту же группу писаний, восходящих к апостольскому собору, помимо 85-ти апостольских правил, следует отнести: собранные св. Ипполитом еп. Римским каноны и им же написанное Апостольское Предание; Дидахе (или Учение 12-ти апостолов), Церковные каноны св. апостолов.
4 Впрочем, вовсе нельзя исключать и того, что кое-что из Апостольских Постановлений могло быть, напротив, заимствовано Апостолами при составлении ими посланий и Евангелий.
5 В 85-ти канонах св. Апостол, принятых Трулльским Собором, также имеются следы поздних интерполяций, однако никому в голову не приходит по этой причине их отвергать.
6 Migne. Patrologia Graeca. T. XX, p. 10.
7 Правила Православной Церкви с толкованиями еп. Никодима. Т. 1. СПб 1994, стр. 442.
8 Цит. по: Розанов В. В. Около церковных стен. М. 1995, стр. 270.
9 Архиеп. Филарет (Гумилевский). Историческое учение об Отцах Церкви. Т. 1. СПб. 1882, стр. 15.
10 Квинт Септимий Флорент Тертуллиан. Избранные сочинения. М. 1994. О прескрипции еретиков, § 13.
11 Аксаков Н. П. Предание Церкви и предание школы. М. 2000, стр. 29.
12 Глубоковский Н. Н. Дидаскалия и Апостольские Постановления по их происхождению, взаимоотношению и значению. София. 1935, стр. 111-115.
13 Правила Православной Церкви с толкованиями еп. Никодима. Т. 1, стр. 442.
14 К примеру, Западная Церковь признавала только 50 из 85 апостольских правил, что было определено на Латеранском Соборе 769 г. при папе Стефане II.
15 Более подробно об этом см.: Деяния Вселенских Соборов. Т. IV. СПб. 1996, стр. 266-267.
16 См. правило св. Амфилохия Иконийского, где сомнению подвергаются послания к Евреям, 2-е и 3-е Иоанна, Иуды, 2-е Петра и Апокалипсис. Хорошо известно, что Апокалипсис св. Иоанна Богослова отвергали св. Иоанн Златоуст, св. Кирилл Иеросалимский и св. Дионисий Александрийский. Правило св. Григория Назианзина также исключает Апокалипсис из числа канонических писаний.
источник: http://fotinia.newmail.ru/Postan.htm
Биография
Исторических свидетельств о Клименте сохранилось мало.
Возможно, именно будущий епископ упоминается апостолом Павлом
Ей, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвизавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена — в книге жизни.
(К Филиппийцам 4:3)
Тертуллиан сообщает, что Климент Римский был рукоположён святым Петром.
Ириней Лионский упоминает Климента как современника апостолов.
Согласно Евсевию, Климент был предстоятелем римской церкви с 92 по 101 годы.
Согласно православному Житию святых, на русском языке, изложенному св. Дмитрием Ростовским, написанному на основе раннехристианских источников, он происходит из знатной римской семьи. (М.: Синодальная типография, 1905. Полный текст:http://www.pravoslavie.uz/Jitiya/11/25.htm).
Вскоре после рождения Климента (30-е годы по Р. Х.), его мать и два брата отправились по морю из Рима в Афины, попали в кораблекрушение, выжили, но потеряли друг друга. Мать Климента, оплакивая потерю детей, осталась на одном из островов Восточного Средиземноморья; малолетние же братья оказались в Иудее и были там усыновлены. Через некоторое время отец Климента отправился разыскивать пропавших членов семьи, решив не возвращаться в Рим, пока не отыщет их.
Климент же взрослел в Риме, изучая науки и скорбя о пропавших родичах. Ни языческая религия, ни философия не могли дать ему удовлетворительного ответа на вопрос о том, что происходит с людьми после смерти.
Когда Клименту исполнилось 24 года, он услышал о пришествии Христа в мир и решил узнать подробнее о его учении, для чего отправился на восток. В Александрии он слушал проповеди апостола Варнавы, а в Иудее нашёл святого апостола Петра, принял от него крещение и присоединился к его ученикам (среди которых оказались и пропавшие братья Климента, им не узнанные).
Затем, по усмотрению Божию, были встречены мать, а потом и отец Климента; при участии апостола Петра семья воссоединилась, родители приняли крещение.
Климент стал одним из ближайших сподвижников Петра и был рукоположён им в епископы, а около 91 года, после смерти епископа Анаклита, возглавил Римскую церковь. Мудро управляя церковью во времена волнений и усобиц в Риме, Климент прославился многочисленными обращениями ко Христу, благодеяниями и исцелениями.
В период очередной волны гонений на христианство, Климент был поставлен перед выбором: принести жертву языческим богам или быть отправленным в изгнание на каторжные работы. Прибыв в каменоломни возле крупного античного города Херсонес Таврический (нынешний Севастополь), отождествляемые обычно с Инкерманскими каменоломнями[2], Климент нашёл там большое число ранее осужденных христиан.
Работая среди них, Климент утешал их и наставлял. Близ места работы не было воды, вследствие чего каторжане терпели значительные неудобства; вследствие молитвы святого Господь открыл водный источник. Слух о чуде распространился по всему Таврическому полуострову и многие туземные обитатели приходили креститься.
Климент всякий день крестил до 500 язычников, и число христиан так увеличилось, что для них потребовалось устроить до 75 новых церквей; языческие идолы были разбиты, а капища — разрушены. В Херсонес для наведения порядка императором Траяном был направлен специальный посланник, который приказал привязать Климента к якорю и утопить в море, дабы последователи не нашли его тела. Однако по молитвам учеников Климента и остального народа, море отступило от берега на три стадия (около 500 м.), и люди нашли тело мученика[3]. Впоследствии, на протяжении семи веков (вплоть до царствования византийского императора Никифора I) море каждый год отступало на несколько дней, давая возможность приходить желающим поклониться. При этом совершались многие чудеса по молитве святого, которого прославил Господь. В начале 800-х годов море перестало отступать, однако около 861 года мощи святого Климента были обретены святыми Кириллом и Мефодием при участии херсонесского епископа Георгия блаженного и священников из константинопольского собора святой Софии. Мощи были внесены в Херсонесский храм и по молитвам святого Климента много совершалось чудес.
Имеет место совпадение имени святого Климента с именем двоюродного брата императора Домициана и второго консула 95 года — Тита Флавия Клемента, убитого в 96 году по приказу императора (по некоторым версиям, за его симпатии к христианам или иудеям).
Наконец, он (Домициан) убил по самому ничтожному подозрению своего двоюродного брата Флавия Климента (Flavium Clementem) чуть ли не во время его консульства, хотя человек это был ничтожный и ленивый и хотя его маленьких сыновей он сам открыто прочил в свои наследники, переименовав одного из них в Веспасиана, а другого в Домициана. (Светоний. Жизнь двенадцати цезарей[4])
В результате, некоторые источники, как античные, так и современные, объединяют эти два исторических лица (например, см. примечание к соответствующему месту в переводе «Жизнь двенадцати цезарей» М. Л. Гаспарова[5]).
Базилика Святого Климента в Риме также, по некоторым версиям, находится на месте дома консула Клемента.
Очевидно, что Святой Климент был современником двоюродного брата императора Домициана, возможно тоже христианина, однако судя по всему это два разных исторических лица: Тит Флавий Клемент был консулом в 95 году — скорее всего эта должность, как и близость к императору, была бы несовместима с римским епископством.
Почитание
Живший задолго до разделения церквей, Святой Климент Римский одинаково почитается и православной, и католической церквями. Широко почитался не только в Киевской Руси, но и в православии как один из первых христианских проповедников в русских землях. Ему посвящены значительные храмы в Москве (Церковь Климента, папы Римского), Торжке и иных местах.
Мощи Св. Климента были обретены, по преданию, святым равноапостольным Кириллом (по некоторым источникам, совместно с братом — святым равноапостольным Мефодием) в крымской Корсуни (Херсонесе) около 861. Святой равноапостольный Кирилл лично перевез мощи в Рим и передал папе Адриану II, где им было устроено небывалое чествование (конец 867 — начало 868 года). Папа Адриан II утвердил богослужение на славянском языке и переведённые книги приказал положить в римских церквях. Мефодий был рукоположён в епископский сан. По мнению некоторых авторов, именно обретение мощей святого Климента освятило в глазах Римской церкви просветительскую миссию Кирилла и Мефодия среди славян и введение богослужения на славянском языке. До того среди некоторых богословов Западной церкви господствовала точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трёх «священных» языках (еврейском, греческом и латинском), поэтому братья были заподозрены в ереси и вызваны в Рим.
В честь обретения мощей святой Кирилл написал на греческом языке краткую повесть, похвальное слово и гимн. Первые два произведения дошли до нас в славянском переводе, который надписан «Слово на перенесение мощем преславнаго Климента, историческую имущи беседу» (ряд исследователей называет его «Корсунской легендой»).
Мощи Святого Климента были перенесены в римскую Базилику Святого Климента. Здесь же был похоронен святой Кирилл, скончавшийся в феврале 869 года.
Часть мощей святого Климента была оставлена в Херсонесе, где покоилась в резной шести тонной мраморной гробнице, сделанной византийскими мастерами из проконесского мрамора. После захвата города русским князем Владимиром Великим в 988 или 989 году, мощи святого Климента (вместе с мраморным саркофагом) по его приказу были перенесены в Киев, где почивали в Десятинной церкви — первом каменном храме Киевской Руси.
После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды церковные и иконы на благословение себе.[6]
Судя по всему, для мощей святого Климента была сделана новая рака, поскольку сын Владимира Ярослав Мудрый был похоронен 20 февраля 1054 года в Киеве в херсонесской мраморной гробнице св. Климента, сохранившейся в Софийском соборе до сих пор. Про глубокое почитание на Руси святого Климента свидетельствует «Слове на обновление Десятинной церкви» (XI веке). В нём Климент определяется как первый небесный заступник русской земли, мощи которого некоторое время были, наряду с Ольгиным Крестом, единственной и главной отечественной святыней.
Церковное солнце, своего угодника, а нашего заступника, святого, достойного этого имени, священномученика Климента от Рима в Херсонес, а от Херсонеса в нашу Русскую страну привел Христос Бог наш, преизобильной милостью Своею для спасения нас, верующих…[7]
Частица мощей от честной главы святого священномученика Климента была передана из Киева в Инкерманский Свято-Климентовский монастырь после возобновления его работы в 1991 году; рака со святыми мощами установлена в боковом нефе Свято-Климентовского храма.
Часть мощей Климента была передана французскому епископу Шалона, приехавшему в составе посольства сватать дочь князя Ярослава Анну Ярославну за французского короля.
Когда Генрих, король французский, послал в Рабастию шалонского епископа Роже[8] за дочерью короля той страны, по имени Анна, на которой он должен был жениться, настоятель Одальрик просил того епископа, не соизволит ли тот узнать, в тех ли краях находится Херсонес, в котором, как пишут, покоится святой Климент… Епископ исполнил это. [Далее следует рассказ о судьбе мощей св. Климента, обнаруженных Роже, к своему удивлению, в Киеве, куда он и направлялся в составе посольства].[9]
Про Херсонес, как место упокоения святого Климента, было известно в Европе. Например, упомянутый выше посланник французского короля спрашивал у великого князя Ярослава Мудрого:
Не в тех ли местах находится Херсон, где, как говорят, почил Климент; отходит ли море и теперь в день его рождения и делается ли доступным для проходящих?[10]
В XIII веке французский монах Гийом Рубрук писал:
И плывя перед этим городом, мы увидели остров, на котором находился знаменитый храм, сооруженный, как говорят, «руками ангельскими»… Вышеупомянутая область Цесария (Крым) окружена морем с трех сторон, а именно с запада, где находится Керсона, город Климента…[5]
Память в Православной церкви — 25 ноября (по юлианскому календарю), в Католической церкви — 23 ноября.
Сочинения
С его именем Св. Климента связывают Климентины и два послания к Коринфянам, направленных им, в качестве епископа Рима, христианской церкви в Коринфе (Греция).
Подлинным признается лишь 1-е послание, написанное христианам Коринфа в связи со смутой, волновавшей общину этого города. В III и IV веках большинство христианских авторов рассматривало первое послание как каноническую часть Нового Завета; оно читалось на воскресных службах наряду с Новым Заветом.
Идея апостольского преемства впервые была сформулирована Климентом в его первом послании к Коринфянам:
«И апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском звании. По этой самой причине они, получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей, и потом присовокупили закон, чтобы когда они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами, с согласия всей Церкви, и служили стаду Христову неукоризненно, со смирением, кротко и беспорочно, и притом в течение долгого времени от всех получили одобрение. И не малый будет на нас грех, если неукоризненно и свято приносящих дары будем лишать епископства.»[13].
Для библейской науки 1-е Послание к Коринфянам Климента Римского важно как свидетельство о священных книгах Нового Завета, которое исходит от человека, жившего на исходе апостольского периода. В послании есть ссылки на слова Спасителя, позволяющие думать, что Клименту Римскому были известны Матфей, Марк и Лука (или, как считает Хольцманн Г., — Матфей и Лука).
В гл.47 Климент Римский напоминает коринфянам наставления ап. Павла из его Послания (1 Кор). Эти скупые указания говорят о том, что в кон. 1 в. Евангелия и Послания были уже широко известны в христианском мире. Большинство цитат Климент Римский приводит из Ветхого Завета, поскольку в его время Ветхий Завет считался Священным Писанием, а *канон Нового Завета был еще в стадии формирования.
Почти все патрологи отрицают принадлежность Клименту Римскому 2-го послания, носящего его имя, и Климентины, несомненно, принадлежат не ему и написаны позднее.
Второе послание к Коринфянам, вероятно, создано иудеохристианским автором в Сирии в II или III веке.
Аутентичность второго послания Псевдо-Климента оспаривалась в античности Евсевием Кесарийским и блаж. Иеронимом.
Апостольские постановления — написанный от лица Климента ранний кодекс канонического права (по мнению современных исследователей, составленный в Сирии около 380 г.).
Сочинение, озаглавленное как «Восьмикнижие Климента» (Clementine Octateuch) — хорошо известное в VI в. сочинение, переведенное в 687 году с греческого языка на сирийский Севиром Антиохийским[14].
«Климентины» или «Псевдо-Климентины» — группа памятников древнехристианской письменности IV в.[15].
Два окружных послания «О девстве» («De virginitate»), написанные в III веке неизвестным автором в Палестине, либо в сиро-Палестинском ареале (входят в состав Климентин)[16][17][15].
- Климент, римские папы и антипапы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Русские переводы:
- Климента, папы Римского, к коринфянам послание. / Пер. с греч. И. Дмитриевского. М., 1781. 80 стр.
- Первое послание. // Христианское чтение. 1824, ч.4.
- Прот. Петр Преображенский. Памятники древней христианской письменности, т. II. Писания мужей Апостольских// М.: 1860
- Первое послание Климента Римского к коринфянам
- Второе послание Климента Римского
- Первое и второе послания к коринфянам. / Пер. П. Преображенского. М., 1861.
- переизд.: М.: ИС РПЦ, 2003. С. 135—191; СПб.: Амфора, 2007. С. 103—202.
- Два окружных послания св. Климента Римскаго о девстве, или К девственникам и девственницам. — ТКДА, Киев, 1869. — Перевод и предисловие еп. Августина (Гуляницкого)
Исследования:
- Савваитов П. И. Святой Климент, еп. Римский. Патрологический опыт. СПб., 1852.
- Августин (Гуляницкий), еп. Два окружныя послания св. Климента Римскаго о девстве, или к девственникам и девственницам. — Труды Кiевской Духовной Академiи, 1869, май, 193—201.
- Cелин, А. А. О посвящении сельских храмов в Новгородской земле XVI в. Св. Климент (папа римский) // Теоретическая конференция «Философия религии и религиозная философия: Россия. Запад. Восток». СПб., 1995, 80-82.
- Уханова, Е. В. Культ св. Климента, папы Римского, в истории византийской и древнерусской церкви IX — первой половины XI в. // Annali del’Istituto universario Orientale di Napoli. Aion Slavistica, 5, 1997—1998, 514—519.
- Задворный, В. Л. Первое Послание Климента I к коринфянам // Он же. Сочинения римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I—IX вв.). М., изд. францисканцев, 2011, 27-32.
Задворный, В. Л. Климент I — первый небесный покровитель Древней Руси // Он же. Сочинения римских понтификов эпохи поздней Античности и раннего Средневековья (I—IX вв.). М., изд. францисканцев, 2011, 274—280.
· M i g n e. PG, t.1; SC, t.167; в рус. пер.: Писания мужей апостольских, СПб., 1895; репр., Рига, 1992; «Послание к Коринфянам» (новый перевод), ЖМП, 1974, №10. ПБЭ, т.11, с.88-98;
· П р и с е л к о в А., Обозрение Посланий св. Климента, еп. Римского к Коринфянам, СПб., 1888;
· *Р е н а н Э., Евангелия: второе поколение христианства, СПб., б.г., репр., М., 1991;
· H a g n e r D.A., The Use of the Old and New Testament in Clement of Rome, Leiden, 1973;
· Quasten, Patr., v.1, p.42-53 (там же приведена иностр. библиогр.); см. ст. Святоотеческая экзегеза».
· Александр Мень Словарь по библиологии
Примечания
- Жития святых, на русском языке изложенные св. Дмитрия Ростовского.
- По мнению некоторых исследователей, могут иметься ввиду другие места в окрестностях Херсонеса, например мраморные каменоломни на берегу бухты Казачьей, однако православная традиция однозначно говорит именно о каменоломнях Инкермана.
- Православные источники считают местом упокоения святого Климента бухту Казачья в западной части Гераклейского полуострова.
- Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.: Наука, 1993.
- 12 Там же.
- Повесть временных лет. Перевод Д. С. Лихачева.
- Слово на обновление Десятинной церкви / Пер. Виталия Задворного // Истина и жизнь. 1994. № 10. С. 38.
- Роже — французский епископ города Шалон-на-Марне в Шампани.
- Назаренко А. В. «Западноевропейские источники». Стр.354. Пер. А. В. Назаренко по GlossaRemensisadPsalteriumOdalrici. Paris, 1904
- Бертье-Делагард А. Л. Раскопки Херсонеса // Материалы по археологии России. СПб., 1893. № 12. С.61.
- 1Кор. Климента Римского гл.59:1-2; цитируется по публикации: Св. Климента Еп. Римск. къ Коринф. послание 1. — Писания мужей апостольских (в русс.пер., с введ. и прим. прот. П.Преображенского). — СПб., 1895
- Evangelisches Kirchenlexikon, Bd. 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1986 — S. 518: «Auf dieser Bahn geht 1Clem weiter, der das Bischofsamt unmittelbar auf die ordnungsgemäße Einsetzung durch die Apostel zurückführt und damit erstmals den Gedanken apostolischer Sukzession anklingen läßt (44,2f).».
- Цит. по: Ранние Отцы Церкви. Брюссель: «Жизнь с Богом», 1988 — с. 70
- А. Пентковский. Антиохийская литургическая традиция в IV—V столетиях // Журнал Московской Патриархии, 2002 (№ 2).
- 12 Mercer dictionary of the Bible / ed. Watson E. Mills, Roger Aubrey Bullard. Macon, GA: Mercer University Press, 1997. pp. 160—161.
- Августин (Гуляницкий), еп. Два окружныя послания св. Климента Римскаго о девстве, или к девственникам и девственницам. — Труды Кiевской Духовной Академiи, 1869, май, 193—201.
- А. И. Сидоров. Курс патрологии: возникновение церковной письменности. М.,1996
Ссылки
- Еп. Августин (Гуляницкий). Два окружных послания св. Климента Римского о девстве, или к девственникам и девственницам (ТКДА. Киев, 1869 г. Май). На сайте Святоотеческое наследие
- Св. Климент, еп. Римский и его сочинения (подлинные и ему приписываемые)
- О предполагаемом месте кончины Св. Климента
Сидоров А.И. Курс Патрологии
Глава: Глава II СВ. КЛИМЕНТ РИМСКИЙ
«Первое послание к Коринфянам» 69
Свидетельства о жизни и творениях св. Климента.
О самом св. Клименте нам известно очень немногое. Согласно св. Иринею Лионскому, он был третьим епископом Рима (после Лина и Анаклита), и св. Ириней говорит о нем как о «видевшем блаженных Апостолов и общавшемся с ними, еще имевшем проповедь Апостолов в ушах своих и предание их пред глазами своими» 70.
Согласно Евсевию Кесарийскому (Церк. ист. III, 15 и 34), епископское служение Климента приходится на 92-101гг.71. По Преданию, погиб он мученической смертью и произошло это в Херсонесе. Мощи римского епископа были открыты святыми первоучителями словенскими Мефодием и Кириллом: часть их они принесли в дар римской церкви, а остальное было перенесено в Киев, где мощи были положены в Десятинной церкви. Имя св. Климента обросло большим количеством легенд, многие из которых восходят к апокрифическому роману под названием «Псевдо-Климентины» (или просто «Климентины»), однако эти легенды не имеют под собой никакой твердой почвы в подлинно церковном Предании.
Св. Клименту приписываются несколько произведений, но подлинным является только его «Послание к Коринфянам» (называемое иногда «Первым посланием св. Климента»). Оно дошло до нас в двух греческих рукописях (V и XI вв.); имеются несколько переводов этого послания на латинский (XI в.) и сирийский (XII в.) языки, а также фрагменты двух коптских переводов (рукопись одного датируется IV или V в.). Данное послание пользовалось большим авторитетом и весьма почиталось в древней Церкви: Климент Александрийский причислял его к новозаветным книгам, а Евсевий Кесарийский сообщает, что в его время послание св. Климента читалось в церквах (вероятно, при богослужении). Датируется оно довольно точно 96-97 гг. Послание являет нам святого автора, миросозерцание которого насыщено и пронизано духом Священного Писания — его св. Климент постоянно цитирует и глубоко понимает. Причем цитаты из Ветхого Завета у него явно преобладают над новозаветными, что неудивительно, ибо в то время канон Нового Завета только еще проходил процесс своего становления. Во всяком случае, св. Климент дважды ссылается на изречения («логии») Господа, почерпывая их из устного Предания72. Обращаясь к Священному Писанию, св. Климент безоговорочно «признавал высшее происхождение» его «как в отдельных выражениях, так и в целом объеме». Поэтому «учение св. Климента по вопросу о богодухновенности есть самое ясное и отчетливое свидетельство церковной веры в богодухновенность Св. Писания послеапостольского века»73. В то же время св. Климент отнюдь не чуждался и эллинской образованности: некоторые стоические идеи явно находят у него отклик (особенно гл. 19-20 послания). Непосредственным поводом к написанию послания был слух, дошедший до римской церкви, о нестроениях в братской коринфской общине: по словам св. Климента, среди коринфских христиан произошел «мятеж» (στάσις), который «немногие дерзкие и высокомерные люди разожгли до такого безумия, что почтенное, славное и для всех достолюбезное имя ваше (т. е. имя христиан. — А. С.) подверглось великому поруганию» (гл. 1). Далее он говорит, что «люди бесчестные восстали против почтенных, бесславные против славных, глупые против разумных, молодые против старших» (гл. 3). Эту фразу, особенно последние слова: οί νέοι επί τους πρεσβυτέρους, можно понимать в двояком смысле — как «восстание младших по возрасту против старших» и как «мятеж некоторой части мирян против клира». Оба смысла, вероятно, почти совпадают, но св. Климент выделяет все-таки второй, ибо ниже он замечает, что «твердейшая и древняя церковь коринфская из-за одного или двух человек возмутилась против пресвитеров» (гл. 47). Таким образом, причина волнений в коринфской общине не имела серьезной догматической подоплеки: это была обычная схизма (раскол), у истоков которой стояли всего несколько лиц, обуреваемых гордыней и честолюбием. Поэтому видеть в этой схизме столкновение «харизматических проповедников с пресвитерами» 74 у нас нет серьезных оснований.
Учение св. Климента. Указанная схизма послужила для св. Климента причиной изложения некоторых важных моментов христианского вероучения, основой которого является догмат о Святой Троице. Впрочем, триадология в послании только намечается в самых общих чертах, но детально не разрабатывается. Тайна внутритроичной Жизни и отношения Божественных Лиц между собой лишь предполагаются св. Климентом, но в эту тайну он не дерзает проникать. Слово Бог (ο Θεός) служит у него обозначением не Божественной сущности, но первого Лица Святой Троицы. Главный акцент в послании ставится на спасительном излиянии действия Божиего на мир, т. е. на тайне Домостроительства Божиего. Причем, как подчеркивает св. Климент, в этом Домостроительстве участвуют все Ипостаси Святой Троицы: Богу Отцу принадлежит изволение (θέλημα Θεού) устроить Царство Божие; Сын является главным орудием и средоточием Домостроительства спасения, а Святой Дух изображается как Полнота (πληροφορία) благодатных средств, ведущих ко спасению, т. е. в Царство Божие. Характерно, что вторую Ипостась Святой Троицы св. Климент лишь один раз называет Сыном Божиим, хотя представление о Божестве Христа и Его предсуществовании высказывается им достаточно ясно. Однако отсутствие четкого акцента на Божественности Христа заставляет св. Фотия Константинопольского в своей «Библиотеке» заметить, что в послании св. Климента Господь наш Иисус Христос называется Архиереем и Предстателем (αρχιερέα και προστάτην), а «богоприличные и более возвышенные речения» (τάς θεοπρεπεις και ί>ψηλοτέρας…φωνάς) ο Нем здесь отсутствуют75. Акт рождения Сына, согласно св. Клименту, как бы совпадает с решением Бога Отца спасти род человеческий, т. е. «сыноположение здесь ясно приурочивается к моменту усыновления Богом рода человеческого в личности Христа-Спасителя» 76. Боговоплощение понимается, прежде всего, как факт уничижения (έταπεινοφρόνησεν) второго Лица Святой Троицы. Человечество Христа особо подчеркивается св. Климентом: Он обладает и плотью (σαρξ), и дутой (ψυχή); по плоти Господь произошел от Авраама и из любви к нам отдал Кровь Свою за нас. Роль Святого Духа не ярко выражена в богословии св. Климента, который называет Его Источником и Излиянием благодати Божией, а также Источником пророческого вдохновения о тайне искупления.
Домостроительство Божие, согласно св. Клименту, распространяется не только на человечество, но и на весь тварный мир77. Бог, будучи Отцом и Создателем мира, излил на него Свои благодеяния, которые св. Климент называет «дарами мира» (της ειρήνης). Поэтому в мире («космосе») царит лад и благочиние: «Небеса, по Его распоряжению движущиеся, мирно (εν ειρήνη) повинуются Ему; день и ночь совершают определенное им течение, не препятствуя друг другу. Солнце и лики звезд, по Его велению, согласно и без малейшего уклонения проникают на назначенные им пути» и т. д. Эту в целом античную (особенно, стоико-платоническую) идею «космоса», предполагающую благоустроение и гармонию мироздания, св. Климент включает в общий контекст «икономического» христианского мировидения: Создатель и Владыка всяческих благотворит всем Своим творениям, но «бесконечно много (ύπερεκπερισσως) нам, которые прибегли к милосердию Его через Господа нашего Иисуса Христа» (гл. 19-20). Таким образом, хотя Домостроительство Божие распространяется на все мироздание, оно сосредотачивается в первую очередь на человеке, как венце творения. Подспудно св. Климентом предполагается мысль, что, поскольку грехопадением человека нарушена вселенская гармония, то от спасения человека зависит и восстановление «благочиния» в мироздании. А это спасение, дарованное Богом людям через Воплощение второго Лица Святой Троицы, осуществляется лишь в Церкви и через Церковь. Поэтому экклесиология занимает одно из самых центральных мест в послании.
Ведущим лейтмотивом данной экклесиологии является опять же идея лада, гармонии и мира («эйрене»). Церковь св. Климент сравнивает с воинским подразделением, где «ни великие без малых, ни малые без великих не могут существовать. Все соединены друг с другом (букв. «есть некое смешение всех» — σύγκρασις τιςέστινεν πασιν) и от этого [происходит большая] польза». Второе сравнение, приводимое св. Климентом, это сравнение с телом в духе экклесиологии св. Апостола Павла: «голова без ног ничего не значит, равно и ноги без головы, и малейшие члены в теле нашем нужны и полезны для целого тела; все они находятся в согласии друг с другом (букв, «дышат вместе» — πάντα συνπνει) и стройным подчинением своим служат во здравие целого тела» (гл. 37). Гармоничное устроение Тела Христова проявляется, прежде всего, в богослужении, совершаемом в определенные времена и часы; благодаря церковному богослужению нам открываются «глубины божественного ведения». Последняя фраза (τά βάθητηςθειας γνώσεως) указывает на ту традицию православного «гносиса», у истоков которой стоят свв. Апостолы Иоанн и Павел и которая затем обрела наиболее четкие формы свои в александрийской школе78. Св. Климент указанной фразой как бы подчеркивает один из самых существенных моментов этого «гносиса» — его церковность, ибо без Церкви, ее таинств и богослужения подлинное ведение не может существовать.
Важнейшей экклесиологической идеей послания представляется мысль, что Церковь есть не человеческое, а Божественное установление. Это проявляется, согласно св. Клименту, прежде всего в богоучрежденности церковной иерархии. Данная мысль ясно высказывается в 42 главе: «Апостолы были посланы проповедовать нам Евангелие от Господа нашего Иисуса Христа, а Иисус Христос — от Бога. Христос был послан от Бога, а Апостолы от Христа; то и другое произошло благочинно (εύτακτως) по воле Божией. Итак, приняв повеление и удостоверенные (πληροφορηθέντες) воскресением Господа нашего Иисуса Христа, утвержденные в вере словом Божиим, с полнотою (μετά πληροφορίας) Духа Святого [Апостолы] пошли благовествовать Царство Божие. Проповедуя по странам и городам, они первенцев своих (τάς άπαρχάς αύτων), после испытания в Духе (δοκιμάσαντες τω πνεύματι — «испытав Духом» или «после духовного испытания»), поставляли во епископов и диаконов для будущих верующих. И это не было новшеством (ου καινώς), ибо задолго до этого было написано о епископах и диаконах». И далее св. Климент цитирует Ис. 60,17, заменяя в тексте Септуагинты άρχοντας (начальники) на διακόνους (слуги, диаконы). Тем самым он довольно прозрачно намекает на то, что истоки свои Церковь имеет в Ветхом Завете. Затем он говорит: Апостолы знали, что «будет раздор о епископском достоинстве» (έριςέσται περίτουονόματος της επισκοπής), а поэтому, обладая «совершенным предведением» (πρόγνωσιν… τελείαν), они, поставив указанных служителей, присовокупили закон (έπινομήν — «добавление, приложение к закону»), чтобы после смерти этих служителей «другие испытанные мужи принимали на себя их служение». Такое поставление новых служителей должно происходить «с согласия всей Церкви» (συνευδοκησάσηςτηςεκκλησίας πάσης) и, если их служение проходит со смирением, безукоризненно, тихо (ήσυχώς — мирно) и получает от всех одобрение, то таковых служителей нельзя лишать епископства (гл. 44). Таким образом, согласно св. Клименту, вся церковная иерархия имеет не только божественное, но и апостольское происхождение. В акте поставления на церковное служение он различает два основных момента: собственно «поставление» (καταστασις) и «одобрение» (συνευδόκησις); первый момент предполагает «рукоположение» (χειροτονεία- см. Деян. 14, 23), а второй — активное участие в этом поставлении и всего народа Божиего, т. е. соборное признание.
Церковная иерархия обеспечивает единство Церкви — идея также наиважнейшая для экклесиологии св. Климента. Причем он, озабоченный схизмой в коринфской общине, «занимается по преимуществу разъяснением внешних условий, необходимых для этого единства… Но, занимаясь изображением важности и необходимости внешних объединяющих начал для единства Церкви, Климент не теряет при этом из виду и внутренних начал этого единства; они даже составляют его исходную точку зрения на единство Церкви»79. Постоянное пребывание Святого Духа в Церкви побуждает чад ее непрестанно устремляться к святости. Отметив это, св. Климент касается еще одного существенного свойства Церкви — ее соборности, «которая у него представляется существующею в виде полного, целостного организма, сознающего и чувствующего себя во всех членах, несмотря на их различие, и потому предоставляющего им право на живое и деятельное участие во всем том, что относится к жизни всего (όλου) ее Тела»80.
С экклесиологией св. Климента непосредственно смыкается и его этическое учение. Поскольку Христос есть Основатель и Глава Церкви, то Он есть образ для определения нравственных норм поведения ее членов. Прежде всего, св. Климент обращает особое внимание на важность покаяния: без покаяния невозможно спасение, ибо Кровь Христа «всему миру принесла благодать покаяния» (μετανοίας χάριν— гл. 7). Далее, для св. Климента покаяние неотделимо от смирения, заповеданного Господом: «утверди себя, чтобы ходить со смирением, повинуясь святым повелениям Его» (гл. 13). Сам Господь являет нам пример смирения, ведь Он «пришел не в блеске великолепия и надменности, хотя и мог бы, но смиренно» и за грехи наши кротко перенес все крестные муки (гл. 16). Здесь христологическая идея «кеносиса» определяет и нравственное учение св. Климента. Наконец, смирение и покаяние немыслимы без любви. Вдохновенный гимн христианской любви в духе св. Апостола Павла звучит в послании: «Любовь соединяет нас с Богом; любовь покрывает множество грехов, любовь все принимает, все терпит великодушно. В любви нет ничего низкого, ничего надменного, любовь не допускает разделения, любовь не заводит возмущения, любовь все делает в согласии, любовью все избранники Божии достигли совершенства, без любви нет ничего благоугодного Богу» (гл. 49). Все этическое учение св. Климента увенчивается положением об оправдании и верою, и делами, причем преимущественный акцент ставится на первой. Он говорит: «мы, будучи призваны по воле Бога во Христе Иисусе, оправдываемся (δικαιούμεθα) не сами собою, и не своею мудростью, или разумом, или благочестием, или делами, в святости сердца нами совершаемыми, но посредством веры, которою Вседержитель Бог от века всех оправдывал» (гл. 32). Это, естественно, не означает пренебрежения делами, поскольку св. Климент увещевает: «со всем усилием и готовностью поспешим совершать всякое доброе дело. Ибо Сам Творец и Владыка всего веселится о делах Своих» (гл. 33).
Наконец, следует отметить, что миросозерцание св. Климента окрашено в эсхатологические тона, впрочем, достаточно мягкие. Подобного рода эсхатологизм присущ всем апостольским мужам, ибо «в первые века христианства надежда на скорое пришествие Христа была, по-видимому, господствующим настроением христианского мира»81. Однако у св. Климента эта надежда хотя и присутствует, но особенно не акцентируется. Он только указывает на величие и красоту будущих обетованных даров. Путь к обретению их, по св. Клименту, возможен при следующих условиях: «Если ум наш будет утвержден в вере в Бога; если будем искать того, что Ему угодно и приятно; если будем исполнять то, что находится в согласии с Его святою волею, и ходить путем истины, отвергнув от себя всякую неправду и беззаконие» (гл. 35). Данная фраза показывает, что эсхатология у св. Климента, как и у многих других отцов Церкви, вполне созвучна с этикой, поскольку только жизнь по Христу и во Христе открывает человеку доступ в будущее Царство Божие.
Следовательно, одна из основных интуиций послания св. Климента — ясное осознание глубокой взаимосвязи всех частей христианского вероучения. Руководящим началом и связующим центром всего мировоззрения святого отца представляется идея Домостроительства Божиего. Как действие всех трех Лиц Святой Троицы, Домостроительство объемлет совокупность мироздания, но сосредотачивается преимущественно на роде человеческом. Ибо именно к людям Бог Отец посылает Своего Сына, Который, восприняв всю полноту человечества, искупил род человеческий и открыл ему путь ко спасению, основав Церковь Свою. Она, являясь Телом Христовым, руководствуется законом благочиния, гармонии и единства всех ее членов. Подчиняясь этому закону, каждый христианин должен свою жизнь настроить на единый лад с данным духовным законом вселенского бытия, ибо без этого он не может стать наследником Царства Божия.
2. Так называемое «Второе послание св. Климента Римского»
Высокий авторитет, которым пользовался в древней Церкви св. Климент, имел следствием тот факт, что его именем неизвестные авторы неоднократно подписывали свои сочинения, тем самым пуская в оборот христианского чтения так называемые «подлоги». Одним из таких «подлогов» и было «Второе послание к Коринфянам св. Климента Римского»82. Сомнения в его подлинности высказывались уже в IV в. Так, Евсевий Кесарийский замечает: «Следует знать, что Клименту приписывают и другое послание, что оно не так известно, как первое, и в древности его не знали» (Церк. ист. III, 38). Блаж. Иероним уже решительно отрицает подлинность этого послания (О знам. муж., 15). Дату написания послания с точностью определить достаточно трудно, но большинство исследователей склонны датировать его серединой II в. Еще труднее локализировать место написания, и в качестве предполагаемых называются Рим, Коринф и Египет (но скорее всего, Рим). По жанру произведение, несмотря на свое название, никак не подходит под определение «посланий»: оно является типичной проповедью и, вероятно, первой по времени из сохранившихся христианских гомилий83. Неизвестный автор сочинения принадлежал, скорее всего, к обращенным из язычников, на что в проповеди имеются два намека (гл. 2 и 3).
Что касается вероучения, отраженного в «Послании», то оно не богато по своему догматическому содержанию, хотя обладает рядом специфических особенностей. Учение о Святой Троице здесь предполагается, но остается в тени. Более рельефно выступают христологические воззрения автора. Прежде всего, им особо подчеркивается Божество Христа, и Божественная природа Господа обычно обозначается словом «Дух» (πνεύμα): Он, бывший прежде «Духом», соделался «плотью» (гл. 9). Последнее выражение (έγένετο σαρξ) явно навеяно Ин. 1, 14 и можно предполагать, что для автора λόγος и πνεύμα являются тождественными понятиями. Также особенно акцентируется и связь Христологии с сотериологией. Христос называется «Родоначальником нетления» (αρχηγόςτης αφθαρσίας), и через Него Бог Отец являет нам истину и небесную жизнь (гл. 20). Само это спасение немыслимо без Воплощения Бога Слова, принявшего полноту человечества. «Он сжалился над нами, и по Своему милосердию спас нас, видя, что мы находимся в заблуждении и погибели и что для нас не осталось никакой надежды на спасение, кроме как от Него. Он призвал нас, не сущих, и возвел от небытия к бытию» (гл. 1). Характерно, что спасение здесь понимается одновременно и в «онтологическом», и в «гносеологическом» плане: оно есть не только возведение от небытия к бытию (т. е. к причастию Богу как Абсолютному Бытию), но и переход от незнания к знанию, от заблуждения к истине, от мрака к свету: «Окруженные тьмою и имея помраченное зрение, мы, по воле Его, прозрели и отогнали облегавший нас туман» (гл. 1).
Из всех богословских аспектов миросозерцания автора «Послания» наиболее примечательной представляется экклесиология, которая излагается преимущественно в 14 главе. Ее характерной чертой является учение о предсуществующей Церкви. Иногда предполагается, что автор, развивая это учение, частично опирался на традицию иудаизма, в котором были достаточно широко распространены представления о некоторых духовных реалиях, сотворенных до создания мира (Законе, или Торе, Небесном Иерусалиме, Рае, Престоле славы и т. д.) 84, однако, поскольку автор был, по всей вероятности, обращенным из язычников, подобное предположение не кажется очень правдоподобным. Если он и воспринял перечисленные иудейские воззрения, то лишь посредством предшествующей христианской традиции, коренным образом изменившей смысловое содержание их. Намечая контуры своего учения о предсуществующей Церкви, автор говорит: «Мы будем принадлежать к первой, духовной Церкви, сотворенной прежде солнца и луны», или к «Церкви Жизни», которой и даруется полнота спасения. Данную идею он сочетает с учением Апостола Павла о Церкви как Теле Христовом, но подобное сочетание обретает в миросозерцании автора причудливые черты. Он считает, что именно о такой предсуществующей Церкви изрекается в Священном Писании: «И сотворил Бог человека, мужчину и женщину» (Быт. 1, 27); под «мужчиной» здесь подразумевается Христос, а под «женщиной»/span — Церковь. Эта Церковь принадлежит не настоящему (ουνυνείναι) миру, т. е. миру материальному, но, происходя свыше (άνωθεν), является духовной, хотя и сделалась зримой в последние дни, чтобы спасти человечество. Подобное появление «духовной Церкви» произошло «во плоти Христа», т. е., вероятно, в зримой и реальной Церкви. И если члены Церкви соблюдают ее нетленной во плоти, то они обретут ее таковой же и во Святом Духе. Эта несколько необычная идея увязывается автором с понятием άντιτυπος, которое в христианском словоупотреблении имело множество значений («образ», «копия», «символ» и т. п.). В послании оно, скорее всего, ассоциируется с неким земным отображением небесной (духовной) реальности. Для автора плоть есть «антитип» Духа, а поэтому тот, кто оскорбляет «антитип», не может сопричаствовать и его «оригиналу» (το αύθεντικόν). Отсюда делается вывод, что должно соблюдать в чистоте плоть, чтобы соучаствовать в Духе. Поскольку же [земная] Церковь есть «Плоть Христова», то всякий творящий бесчестие над ней (подразумеваются, наверное, в первую очередь еретики и раскольники) не сможет стать сопричастником Духа или Небесной Церкви. Данная экклесиология послания (учитывая, конечно, то, что она не совсем ясно выражена и сформулирована) вызывает определенные сомнения с точки зрения православной «акривии», ибо она несколько напоминает учение гностиков-валентиниан о паре («сизигии») предсуществующих эонов, именующихся «Человеком» и «Церковью»85. Правда, такую близость к ереси валентиниан не следует и преувеличивать: представление автора послания о плоти как об «антитипе» Духа явно не вписывается в общий настрой «псевдогностического» миросозерцания (следует различать подлинный, т. е. церковный, «гносис» и «гносис» еретический, т. е. «псевдогносис»), в котором понятие «плоть» обычно связано с негативными ассоциациями. Можно даже предполагать, что свою мысль о плоти как «антитипе» Духа автор послания полемически заостряет против «псевдогностиков», отрицающих всякое значение материального начала в человеке. В общем, свое представление о Церкви автор «Второго послания» явно пытается основать на учении св. Апостола Павла, говорящего о Церкви как «Невесте Христовой» (2 Кор. 11, 2 и Еф. 5, 25-32), но далее это учение Апостола развивается им в направлении, определенно уклоняющемся от столбовой дороги православной экклесиологии. Вместе с тем, как замечает архимандрит Киприан (Керн), «экклесиология данного памятника интересна в общем контексте раннехристианской экклесиологии. Древняя христианская литература не писала обширных теоретических трактатов о Церкви, так как христианское общество того времени жило Церковью. Эта последняя не была отвлеченною, теоретическою истиною»86. Подобное живое чувство Церкви и церковности характерно также и для рассматриваемого произведения.
Еще одна черта миросозерцания автора «Второго послания», сближающая его с прочими апостольскими мужами, — достаточно четко выраженный эсхатологизм. Одной из главных богословских интуиций произведения является антитеза «века сего» и «века будущего»; они суть «два врага», ибо первый «проповедует прелюбодеяние, разврат, сребролюбие и обман», а второй — отрицает и ниспровергает эти грехи (гл. 6). Подобная антитеза мыслится преимущественно в этическом плане, но этический аспект тесно связан с Христологией и сотериологией. Подспудно прослеживается и связь с экклесиологией, ибо для автора, как и для многих отцов Церкви, характерно ощущение, что «Церковь одновременно живет в двух измерениях»87. Это проявляется в его учении о причастии Церкви земной к Церкви Небесной. Указанная антитеза «двух веков» прежде всего понимается как противоположность «тленного» и «нетленного» (φθαρτός —άφθαρτος), т. е. бытия преходящего и временного, с одной стороны, и бытия незыблемого и вечного, с другой. Первое ассоциируется в сочинении с «миром плоти сей» (κόσμοςτης σαρκός ταύτης), а поэтому все принадлежащее миру сему (τάκοσμικά) — кратковременно и непрочно; обитание в этом мире понимается как пребывание на чужбине (или: в ссылке, изгнании- понятие παροικία). Автор увещевает своих слушателей: «Странствование плоти нашей в мире этом мало и кратковременно, а обещание Христово велико и дивно, а именно: покой будущего Царства и вечной жизни» (гл. 5). Все этическое учение в сочинении выдержано в такой эсхатологической перспективе 88: вечное бытие будущего века (которое и есть спасение, дарованное Богом Отцом через Христа) стяжается «жизнью благочестивой и праведной»; такая жизнь предполагает признание мирских благ за нечто чуждое, ибо желание приобретения их уводит с правого пути (гл. 5). И к слушателям автор обращается следующим образом: «Будем же подвизаться так, чтобы всем быть увенчанными. Вступим на путь правый, подвиг нетленный, и совокупно пойдем и будем подвизаться так, чтобы удостоиться венца. И если всем нельзя быть увенчанными, по крайней мере, будем близки к венцу» (гл. 7). Подобный подвиг духовного делания неотделим от чаяния вечного блаженства: «Будем ежечасно ожидать Царства Божия в любви и праведности, потому что не знаем дня явления Божия» (гл. 12).
Несомненная аскетическая тенденция ясно прослеживается в сочинении. Одним из ключевых выражений здесь является фраза: «хранить (блюсти) плоть в чистоте» (τηρείντηνσάρκα άγνήν). Согласно автору, брань против века сего совсем не означает презрения к телу, и аскетика «Второго послания» явно полемически направлена как против псевдогностических сект, так и против энкратизма, сродного с этими сектами 89. Говоря о соблюдении плоти в чистоте, автор отождествляет такое «блюдение» с «сохранением печати», т. е. с сохранением чистоты крещения (τηρεϊντηνσφραγίδα, τηρεϊντο βάπτισμα άγνόν). Вообще, согласно «Второму посланию», плоть играет наиважнейшую роль в Домостроительстве спасения. Здесь говорится: «Никто из вас не должен говорить, что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знайте: в чем вы спасены, в чем прозрели, если не во плоти? Поэтому вам должно хранить плоть, как храм Божий. Ибо как призваны во плоти, так и на суд придете во плоти же» (гл. 9). Другими словами, по мысли автора, плоть (или тело) есть именно та область, где и происходит самое существенное в жизни человека — его спасение, ибо во плоти мы получаем крещение и во плоти воскреснем. Отсюда наиважнейшее значение обретает в «Послании» тема покаяния: «Мы, пока еще живем в мире этом, должны каяться от всего сердца в том зле, которое соделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествии нашем из мира мы уже не сможем там исповедаться или покаяться» (гл. 8). Вследствие этого через таинство покаяния и обретает человек в первую очередь спасение (гл. 13). Покаяние тем более необходимо, что «день Суда» уже близок: в этот день станут явными и сокрытые, и открытые дела человеков. Но для спасения, согласно автору, нужно не одно только покаяние: милостыня и милосердие, пост и «молитва от благой совести» также необходимы для освобождения человека от смерти (гл. 16). Из других моментов этического учения, излагаемого в сочинении, можно отметить следующие: Господа надо исповедовать делами — воздержанием, милосердием и добротой, проявляемыми по отношению к людям; «если мы будем делать добро, то водворится в нас мир» (гл. 10). Для обретения такого духовного мира и покоя следует отринуть всякие сомнения и быть твердым в своем уповании (гл. 11). Братская взаимопомощь и послушание «старейшим» (пресвитерам) также входят в число важнейших христианских добродетелей (гл. 17). Наконец, христиане не могут быть «человекоугодниками» и в своей праведности они должны служить образцом и для язычников («внешних»), которые, увидев, что дела христиан не расходятся с их словами, станут внимать «словесам Божиим» (гл. 13).
Таким образом, произведение, именуемое «Вторым посланием св. Климента Римского», представляет собой немаловажный памятник раннехристианской эпохи. Анонимный автор этой проповеди в целом придерживается православной позиции, за исключением отмеченных нюансов экклесиологии. Его нельзя назвать выдающимся богословом, и сочинение его не блещет яркими литературными достоинствами, но, будучи выразителем воззрений значительного числа членов «народа Божия», он доносит до нас глас этого народа. Поэтому данное сочинение занимает, несмотря на некоторые его изъяны, достойное место в истории древнецерковной письменности.
3. Прочие сочинения, приписываемые св. Клименту Римскому.
«Два окружных послания о девстве» («De virginitate»). «Псевдо-Климентины» («Климентины»)
«О Девстве». Помимо «Второго послания» св. Клименту приписываются и некоторые другие произведения. Например, упомянутые выше «Апостольские постановления» и «Восьмикнижие Климента». Среди этих «подлогов» наибольший интерес представляют два послания к избравшим аскетическую жизнь подвижникам и подвижницам. На самом деле эти послания в своем изначальном виде были единым произведением, позднее искусственно разделенным на две части 90. Греческий оригинал, за исключением нескольких фрагментов, утерян, сочинение целиком сохранилось лишь в сирийском переводе (частично также и в коптском). Датируется оно приблизительно серединой III в., написано неизвестным автором, вероятно, в Палестине. Правда, высказывается и не менее основательное предположение, что данное произведение могло быть создано в сиро-палестинском ареале, т. е. в непосредственной близости к древнему сиро-язычному христианству91. Главная тема этого сравнительно большого аскетического произведения (в двух посланиях 29 глав) — преимущество девственной жизни и высокие нравственные требования, предъявляемые к избравшим ее92. В частности, здесь говорится, что «всякому девственнику и всякой девственнице, решившимся поистине сохранить свое девство ради Царствия Небесного, необходимо во всем быть годными для этого Царствия. Ибо Царство Небесное восхищается не словами, не именем, не образованием, не происхождением, не красотою, не силою, не долголетием, но доблестью веры, когда человек являет дела веры» (I, 2). Данная новозаветная мысль о единстве веры и дел рефреном проходит через все сочинение: «Истинно верующий спасется, а кто только по имени называется верующим, а на деле не таков, тот не может спастись». Тем более основополагающий для всякого христианина принцип единства веры и дел необходим для избравших девственную жизнь, ибо они «суть прекрасные образцы для верующих и имеющих веровать». Поэтому такие подвижники должны отвергнуть «и похоть, и обольщение мира сего, и утехи, и пьянство, и всякую любовь его», освободив себя «от всякого обращения с миром, от всяких хитростей, сетей и препон его» (I, 3). Возжелавший достичь высот христианского призвания «отказывается из-за него и отделяется от всего мира, чтобы уединиться и жить жизнью божественною и небесною, как Ангелы… святые, в служении чистом и святом, в святости Духа Божия, и служить Богу Всемогущему чрез Иисуса Христа ради Царствия Небесного» (I, 4). Примером такого служения является Пресвятая Богородица, ибо «утроба девства святого носила Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, и в тело, которое носил Господь наш и в котором совершил борьбу в этом мире, Он облекся от Святой Девы»; многие святые, как ветхозаветные (Илия, Елисей и др.), так и новозаветные (Апостолы Павел, Варнава и др.), также являют образец девства. Наконец, высшим образцом его служит Сам Господь. «Поэтому всякий девственник и девственница, если не будут совершенно как Христос или как те, которые Его суть, — не могут спастись» (I, 6-7). Исполняющие же прилежно свой подвиг целомудренной жизни добиваются стяжания Духа Божия: «все плоды их суть плоды Духа и Жизни, и они поистине суть град Божий, и дом, и храм, в котором вселяется и обитает Бог» (I, 9).
Именно возвышенная цель избравших сей подвиг и заставляет автора достаточно подробно останавливаться также на тех, кто позорит великое звание христианского девства. Он, в частности, упоминает о дурной молве, распространившейся относительно тех людей, «которые живут с девами под предлогом благочестия, и подвергают душу свою опасности, и ходят с ними одни, в дороге и пустыне, путем, полным опасностей, соблазнов, сетей и пропастей». Другие «едят и пьют с девами и святыми в возлежании (за столом), в отдохновениях и непотребствах многих»; третьи-«собираются для пустословия, празднословия, смеха, чтобы говорить злое друг о друге и охотиться словами один против другого» (I, 10). Все подобные злоупотребления и грехи происходят, согласно автору, от праздности и лени (I, 11). Вследствие этого он заповедует избравшим девственную жизнь пребывать в постоянных трудах и служениях. Из последних он выделяет посещение «сирых и вдовиц, особенно бедных, имеющих много детей», оказывание им всяческой помощи. Второе служение аскетов, отмечаемое в произведении, — «посещать одержимых злыми духами и творить над ними заклинательные молитвы, приятные пред лицем Божиим». Причем, как говорит автор, «постом и молитвою пусть заклинают, не словами красными, отборными и изысканными, но как мужи, от Бога получившие дар врачевания» (I, 12). Судя по данным замечаниям, аскеты в III в. исполняли служение первохристианских «эксорцистов», изгоняющих бесов, т. е. то служение, которое позднее стало почти исключительной прерогативой монашества.
Вторая часть произведения (или второе послание) посвящена почти наполовину предписаниям, регламентирующим правила поведения избравших целомудренную жизнь. Истинный образ поведения аскета здесь определяется так: «С девами не живем, и не имеем с ними никакого дела, и с ними не едим, не пьем, и где спит дева, не спим, и не умывают женщины ног наших, и не помазывают нас… Если же застигнет нас время [отдыха] на каком-либо месте, в поле, или городе, или в деревне, где встретятся и найдутся братия, входим к брату и созываем туда всех братий, и говорим с ними слова увещательные и честные» (II, 1). Далее повествуется о том, как следует себя вести, если в общине, куда пришел аскет, нет такого же, как он сам, подвижника; или если вся община состоит из женщин и «дев верных». Особая мудрость и трезвение требуются, если аскет попадает в место, где живут одни язычники, и они упрашивают его остаться на несколько дней. «Ибо мы не так служим, как пьяные язычники, богохульствующие в забавах своих, в словах обольщения по причине нечестия своего. Поэтому мы не поем язычникам и писаний не читаем им» (II, 6). Заканчивается сочинение опять обращением к примерам святых, которые «все время жизни своей и даже до конца, пребывали во взаимном общении, в служении чистом и без порока» (II, 7). Особое внимание обращается на тех из них, которые избежали вожделений блудной похоти, — например, на Иосифа, достойно противоставшего жгучей страсти египтянки. Но приводятся и обратные примеры: Сампсона, бывшего назореем, которого жена «погубила дешевым телом и похотью злою», поскольку «мужняя жена уловляет дорогие души» (II, 9); Давида, являвшегося «мужем по сердцу своему, человеком верным, совершенным, святым, истинным», но впавшим в соблазн, когда увидел обнаженную Вирсавию. И если такие мужи, — восклицает автор, — погибли чрез женщин, то какова твоя праведность или каков ты между святыми, если обращаешься с женами и девами ночью и днем, в безумии многом, без страха Божия?» (II, 10). Истинные подвижники должны следовать по стопам непорочных пророков и Апостолов, а также по стопам Самого Господа, в Котором «дан неуклонный предел, край и образец для всех родов человеческих» (II, 15).
Если принимать указанную датировку произведения, то оно свидетельствует о появлении в середине III в. феномена «протомонашества». Впрочем, основные и существенные черты этого феномена начали складываться еще с самой первохристианской эпохи93, но в III в. они, судя по другим источникам, приобрели ярко выраженный характер. Правда, о монашестве в собственном смысле слова еще вряд ли можно говорить, ибо этот древнехристианский аскетизм пока не обрел четких форм своей организации. Подвижники, о которых говорится в «Окружных посланиях» Псевдо-Климента, ведут странническую по преимуществу жизнь, переходя из одной местной церкви в другую, исполняя здесь служения «целителей» душ и телес верующих, помогая сирым и бедным, духовно назидая и окормляя верующих. Можно предполагать, что образовываются уже и небольшие сообщества аскетов, пока еще аморфные, в том числе женские аскетические общины, — прообразы будущих киновий. Становление такого «протомонашества», естественно, сопровождалось и «детскими болезнями роста», на которые автор сочинения обращает особое внимание. Однако, несмотря на них, в произведении достаточно ясно намечены контуры «монашеского аскетического богословия» и указаны духовные ориентиры для избравших «самый тесный и самый узкий путь» к Царству Небесному.
«Псевдо-Климентины» («Климентины»)94. Под этим общим названием объединяется группа памятников древнехристианской письменности, связываемых с именем св. Климента Римского или частично приписываемых ему. Данная группа, имеющая весьма разнородный характер, состоит из пяти произведений:
1) Послания Апостола Петра к Иакову Праведному, первому епископу Иерусалима, с которым соединено так называемое «Свидетельство для получающих книгу»;
2) Послание Климента к Иакову;
3) «Беседы» («Гомилии», числом 20);
4)«Встречи», или «Узнавания» (Recognitiones) в 10 книгах и
5)«Сокращение деяний Петра».
Из этих сочинений основное значение имеют «Беседы» и «Встречи», являющиеся стержнем «Псевдо-Климентин». Они представляют собой две самостоятельные редакции, в основе которых, как предполагают исследователи, лежит одно, не дошедшее до нас, сочинение под названием «Проповеди Петра» (его не следует путать с одноименным произведением, которое цитирует Климент Александрийский) 95. Также предполагается, что оно было создано неизвестным автором ок. середины III в., вероятно, в Сирии. Позднее, в первые десятилетия IV в., произведение подверглось переработке неким редактором, для миросозерцания которого были характерны арианские тенденции, и обрело форму «Гомилий». Чуть позднее, ок. середины IV в., «Проповеди Петра» еще раз перерабатываются, на этот раз православным редактором, в результате чего появляется редакция «Встреч» («Узнаваний»). Греческий оригинал последней редакции был утерян; сочинение сохранилось, помимо упомянутого латинского перевода Руфина, еще в сирийском переводе рубежа V в. Своего рода «оболочкой» обеих редакций является «апокрифический роман» с занимательной фабулой «остросюжетного характера». Здесь Климент описывается как отпрыск благородной римской семьи, состоящей в родстве с императором. Его мучает неизбывное желание разрешить великие вопросы бытия: о происхождении мира, возникновении зла, проблема бессмертия души и пр. В поисках ответа на эти вопросы он обращается к различным языческим культам и философским школам, но нигде не находит ответа. В результате Климент тяжко заболевает, и его поднимает с постели только глухая молва о том, что «Некто» в далекой Иудее возвестил радостную весть о спасении всех людей. Юноша тут же собирается в дорогу, но, в силу неблагоприятных погодных условий, его судно оказывается в Александрии. Здесь он встречается с Апостолом Варнавой, который представляет молодого человека Апостолу Петру. Обратившись, Климент становится спутником первоверховного Апостола, свидетелем его бесед и диспутов (в том числе диспутов с «архиеретиком» Симоном Волхвом), которые и записываются. В общем, по словам А. В. Успенского, Климент в «Псевдо-Климентинах» предстает как «символ благородной, жаждущей истины души язычника»; в его характеристике «замечается поразительная аналогия с сочинениями св. Иустина Философа». В романе также описывается судьба семьи Климента, члены которой, в результате несчастного стечения обстоятельств, растеряли друг друга, но, благодаря св. Петру, вновь соединились (отсюда и название одной из редакций — «Встречи»).
Что же касается вероучительного содержания памятника, то по основам своего миросозерцания (отраженного прежде всего в «Проповедях Петра») он близко соприкасается с течением так называемого «иудейского гностицизма» (или «гностического иудаизма») 96. Поскольку в иудаизме этого периода действительно наблюдается зарождение подобных «гностических» тенденций (хотя датировать с точностью данное зарождение достаточно трудно) 97, такое предположение не лишено некоторого правдоподобия. Это мировоззренческое течение в иудаизме нашло отклик и на периферии древнего христианства, в результате чего возник достаточно аморфный феномен «иудеохристианского гносиса»98, одна часть которого (например, секта элкасаитов) совсем вышла за границы Церкви, другая же (отраженная и в «Псевдо-Климентинах») неустойчиво балансировала в данных границах, все же тяготея, как правило, к отпадению от Церкви. Автор (точнее, авторы и редакторы) рассматриваемого произведения исходит из той посылки, что «исторические формы обнаружения единой вечной перворелигии — иудейство и христианство — не имеют особого значения. Он почти совсем уничтожает прерогативы иудеев как избранного народа. Обе религии у него различаются своим историческим назначением: одна (иудейство) назначена для евреев, другая (христианство) для язычников. «Поэтому, — говорит автор, — ни евреи не осуждаются за незнание Иисуса, если только они, исполняя предписания Моисеевы, не относятся с ненавистью к Тому, Которого не знают; ни язычники (т. е. христиане из язычников) не осуждаются за незнание Моисея, если, исполняя слова Иисусовы, не относятся с ненавистью к Тому, Которого не знают» (Нот. 8, 6). Руководствуясь этим взглядом, автор «Климентин» решительно отвергает все внешнее и грубое в иудействе; в особенности он произносит суровый приговор жертвенному культу (Нот. 2, 44; 3, 24, 45, 56). Но вместе с тем он не возвысился еще до полной свободы от дел закона в духе учения св. Апостола Павла. Молчаливо он признает (по крайней мере, для природных евреев) обрезание и субботу, несомненно, сохраняет многие предписания закона об омовениях» (А. В. Успенский).
Столь широкий синкретизм имел следствием тот факт, что в «Псевдо-Климентинах» слились весьма причудливым образом различные мировоззренческие элементы. С одной стороны, автор (авторы) придерживается единобожия, с другой, тяготеет к некоему дуализму, что, например, прослеживается в такой выдержке из «Гомилий» (перевод А. В. Успенского): «Бог… все до последних пределов разделил надвое и по противоположению… Сам изначала сый единый Бог, Он создал небо и землю, день и ночь, свет и огонь, солнце и луну, жизнь и смерть… Также поставлены два царя: одному из них (диаволу) предуставлено царствовать над временным миром, а другому (Христу) — владеть царством будущего века» (Ноm. 2, 15; 20, 2). Впрочем, данный дуализм носит не метафизический, а этический характер, ибо субстанциальность зла отрицается. Вина за зло в мире целиком ложится на человека, обладающего свободой воли. Согласно автору, человек «есть нечто гораздо большее, чем одно из звеньев природы. Он как бы мировой фокус, в котором лучи мировой жизни преломляются и получают обращенное исправление. В нем и все лучшее в мире находит свое выражение; от него же, и только от него, происходит и все злое» (А. В. Успенский). Добровольное впадение человека во зло и отклонение его от истины проявилось в появлении «женских пророчеств» в мире, восходящих к Еве. Она «есть первый ложный пророк; после нее пред каждым лучшим человеком является худший, и пред каждым истинным пророком является ложный. Так, Авелю предшествует Каин, Исааку Измаил, Иакову Исав, Моисею Аарон, Иисусу Иоанн Креститель, Христу пред вторым пришествием Антихрист. Те начала — доброе и худое, которое в Адаме и Еве проявились отдельно, смешиваются в последующих родах, и снова от времени до времени проявляются в истории отдельно в лице истинных и ложных пророков» (И. Побединский-Платонов). Другими словами, лжепророкам противостоят истинные пророки, ведущие свою линию от Адама, поскольку тот «научил своих детей любить Бога и быть достойными любви Божией. Он передал им вечный закон, который не мог быть ни поврежден, ни исправлен и который могли читать все» (И. Побединский-Платонов). Противостоянием Истины и лжи, каждая из которых имеет своих «возвещателей», и определяется ход мировой истории. В принципе, Адам, как родоначальник линии истинных пророков, отождествляется в «Псевдо-Климентинах» с Христом, Который изображается в качестве «предсуществующего Пророка Истины», сообщающего людям спасительное ведение («гносис»). Данный «Пророк Истины», явившись сначала в теле Адама, затем периодически воплощается в ветхозаветных праведниках (Енохе, Ное, Моисее и др.). Высшим воплощением Его был Иисус, возвративший изначальной религии ее универсальное значение. Тем самым уникальный и неповторимый акт Воплощения Бога Слова в «Псевдо-Климентинах» подменяется периодическими реинкарнациями предмирного «Эона Христа». Естественно, отсутствует здесь и идея искупления.
В общем, данный памятник, безусловно, чужд духу кафолической Церкви. Потребовалась коренная переработка его, чтобы он, преимущественно в виде «Встреч», частично был усвоен церковным сознанием. Впрочем, такое усвоение затронуло главным образом не вероучительный, а повествовательный материал, содержащийся в «Псевдо-Климентинах». Легендарные детали «апокрифического романа» были позднее включены в различные версии «Жития» св. Климента, в том числе отразились и в «Четиих Минеях» св. Димитрия Ростовского».
Климент римский. Писания мужей апостольских. Книга VIII
О дарованиях, рукоположениях и канонах церковных.
«32. И я, Павел, наименьший из апостолов, постановляю вам, епископам и пресвитерам, о канонах сие:
[1] Кто впервые приходит к тайне благочестия, тех пусть приводят диаконы к епископу или пресвитерам, и пусть изследуют причины, почему пришли они к слову Господню, а приведшие пусть свидетельствуют о них, точно изследовав касающееся их. Пусть изследуют также и поведение и жизнь их, и рабы ли они или свободные.
[2] И если кто будет раб верующего, то пусть спросят господина его, свидетельствует ли о нем, и если не свидетельствует, да будет отринут, пока явится господину достойным, а если свидетельствует о нем, да будет принят.
[3] Если же он слуга язычника, то да учится благоугождать господину, чтобы не хулилось слово Божие.
[4] Опять, если имеет он жену или жена мужа, то да учатся довольствоваться самими собою, а если они не брачные, то да учатся не любодействовать, но жениться по закону.
[5] А если господин его, верующий и знающий, что он любодействует, не дает ему жены или жене мужа, то да будет отлучен.
[6] Кто имеет беса, тот благочестию да учится, но в общение да не принимается, доколе очистится; если же настоит смерть, да будет принят.
[7] Кто содержит блудниц, тот или пусть перестанет сводничать, или да будет отринут.
[8] Если приходит блудница, то или пусть перестанет блудодей-ствовать, или да будет отринута.
[9] Если приходит делатель идолов, то или да перестанет делать их, или да будет отринут.
[10] Если приходит кто из актеров, мужчина или женщина, или возница, или мечебоец, или ристалищный бегун, или начальник игрищ, или участвующий в олимпийских играх, или игрок на свирели, или игрок на гуслях, или игрок на скрипке, или плясун, или корчемник; то или пусть перестанут заниматься этим, или да будут отринуты.
[11] Если приходит воин, то пусть учится не обижать, не клеветать, но довольствоваться даваемым жалованьем; если повинуется, да будет принят, а если прекословит, да будет отринут.
[12] Гнусный плотоугодник, распутный, любострастный, волшебник, ворожея, гадатель по звездам, вещун, ядущий магические мяса, нищий бродяга, шарлатан, делающий привески, окачивающий людей заговоренною водою, прорицающий по полету птиц, объяснитель знаков, толкователь по биению сердца, подмечающий при встрече взгляды или походки, гадающий по курам или ласточкам или голосам или подслушиваниям, да испытываются в течение года, ибо нельзя скоро отстать от злобы; кто перестанет заниматься этим, те да будут приняты, а кто не повинится, те да будут отринуты.
[13] Раба, наложница какого-нибудь неверующего, совокупляющаяся с ним одним, да будет принята, а если она и с другими распутничает, да будет отринута.
[14] Если верующий имеет наложницею рабу, то пусть перестанет иметь ее наложницею и женится по закону, если же свободную, то пусть женится на ней по закону, а если не так, да будет отринут.
[15] Кто следует еллинским обычаям или иудейским басням, тот или пусть отстанет от сего, или да будет отринут.
[16] Кто предан бывающему на зрелище неистовству, или ловлям, или скачкам на лошадях, или боям на играх, тот или да отстанет от того, или да будет отринут.
[17] Желающий огласиться пусть оглашается три года; но если кто прилежен и имеет благорасположение к делу, да будет принят; ибо ценится не время, но поведение.
[18] Учитель, хотя бы и из народа, если он искусен в слове Божием и чист по поведению, пусть учит; ибо все будут научены Богом [Ин. 6:54].
[19] Всякий верующий или верующая, встав поутру от сна, прежде нежели начнет делать дело, пусть умоется и помолится; а если будет какое слово поучения, то слово благочестия да предпочтет делу.
[20] Верующий или верующая, как и в предыдущем постановили мы и в посланиях научили, пусть держат себя к слугам милостиво. 33. Я, Петр, и я, Павел, постановляем:
[1] Рабы пусть работают пять дней, а в субботу и в день Господень пусть пребывают в церкви ради учения благочестия; ибо суббота, сказали мы, имеет образ создания, а день Господень — воскресения.
[2] Во всю великую седмицу и в следующую за ней да не работают рабы; потому что та есть седмица страдания, а эта воскресения, и нужно поучаться, Кто пострадавший и воскресший, и Кто попустил страдать и воскресил.
[3] В вознесение да не работают, потому что оно — конец домостроительства о Христе.
[4] В пятдесятницу да не работают, потому что тогда пришел Дух Святый, дарованный уверовавшим во Христа.
[5] В праздник Рождества Христова да не работают, потому что в оный дана людям нечаемая благодать — рождение Слова Божия Иисуса Христа от Девы Марии на спасение Mиpa.
[6] В праздник богоявления да не работают, потому что в оный последовало явление Божества Христова, когда при крещении свидетельствовал о Нем Отец и Утешитель в виде голубя показал предстоящим Свидетельствованного.
[7] Во дни апостолов да не работают, ибо они стали учителями вашими о Христе и сподобили вас Духа.
[8] В день Стефана первомученика и прочих святых мучеников, предпочетших Христа жизни своей, да не работают.
34. [9] Молитвы совершайте вы утром и в третьем часу, и в шестом, и в девятом, и вечером и в петлоглашение: утром, благодаря, что Господь осветил вас, преведши ночь и наведши день; в третьем часу потому, что тогда Господь принял осуждение от Пилата; в шестом потому, что тогда Он распят; в девятом потому, что когда распинали Владыку, все поколебалось, трепеща дерзости нечестивых иудеев, не снося поругания Господа; вечером, благодаря, что Он дал нам ночь для упокоения от дневных трудов; в петлоглашение же потому, что время это благовест-вует приход дня для делания дел света.
[10] Если по причине неверных невозможно идти в церковь, то ты, епископ, сделай собрание в доме, чтобы благочестивый не вошел в церковь нечестивых, ибо не место освящает человека, но человек место.
[11] Если же место удерживают нечестивые, то ты должен бегать его, потому что оно осквернено ими; ибо как преподобные священники освящают, так нечестивые оскверняют.
[12] Если невозможно собраться ни в доме, ни в церкви, то пусть поет псалмы, читает, молится каждый у себя один, или же вдвоем или втроем: ибо где, говорит Господь, двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их [Мф. 18:20].
[13] С оглашенными да не молится верный и дома; ибо несправедливо, чтобы освященный осквернялся с неосвященным.
[14] С еретиком да не молится благочестивый и дома, ибо какое общение у света со тмою?
[15] Верующий или верующая, совокупляющиеся с рабами, или да разлучатся или да будут отринуты.
35. И я, Иаков, брат Христов по плоти, раб же Его, как Бога Единородного, рукоположенный в епископа Иеросалимского самим Господом и апостолами, говорю следующее:
Когда настанет вечер, ты, епископ, собери церковь, и после того, как скажут светильный псалом, диакон пусть возгласит об оглашенных и обуреваемых и просвещаемых и кающихся, как прежде сказали мы. А по отпусте их, диакон пусть скажет: елицы вернии, Господу помолимся, и, возгласив содержащееся в первой молитве, пусть скажет:
36. Спаси и возстави ны, Боже, Христом Твоим. Воставше, милостей Господа и щедрот Его просим.
Ангела иже на мир, добрых и полезных, христианских концев, вечера и нощи мирныя и безгрешный, и всего времене живота нашего неосужден на просим.
Сами себе и друг друга Живому Богу Христом Его предадим.
И епископ, молясь, пусть говорит:
37. Безначальне Боже и безконечне, всяческих Творче Христом и правителю, прежде же всех Его Боже и Отче, Духа Господи и мысленных и чувственных Царю, Иже сотворивый день к делам света и нощь к упокоению немощи нашея, Твой бо есть день и Твоя есть нощь, Ты свершил еси зарю и солнце. Сам и ныне, Владыко Человеколюбче и Всеблаже, милостивно приими вечернее наше сие благодарение. Иже преведый нас долготою дне и введый в начала нощи, сохрани нас Христом Твоим, вечер подаждь мирен и нощь безгрешну, и сподоби нас жизни вечныя Христом Твоим, Имже Тебе слава, и честь и почитание во Святем Дусе во веки. Аминь..
И диакон пусть говорит: преклонитеся круковозложению. И епископ пусть говорит:
Боже отцев и Господи милости, Иже мудростию Твоею устроивый человека, словесное животное, боголюбезное ихже на земли, и давый ему властвовать яже на земли, и поставивый мыслию Твоею начальники и иереи, тыя убо к утверждению живота, сих же к служению взаконен-ному. Сам и ныне преклонися, Господи Вседержителю, и яви лице Свое на люди Твоя, преклоншия выю сердца своего, и благослови я Христом, Имже осветил еси нас светом разума и открыл еси нам Себе, с Нимже Тебе и достойное подобает поклонение от всякаго словеснаго и святаго естества, и Духу Утешителю во веки. Аминь.
И диакон пусть говорит: изыдите в мире.
Точно также утром диакон, после того как скажут утренний псалом и отпустит он оглашенных и обуреваемых, и крещаемых, и кающихся, и сделает подобающее возглашение, — чтобы опять не сказать нам того же, — после: спаси их, Боже, и возстави в благодати Твоей, пусть присовокупляет:
Просим от Господа милостей Его и щедрот, утра сего и дне мирна и безгрешна, и всего времени пришельствия нашего, ангела иже на мир, христианских концев, милостива и милостивна Бога.
Сами себе и друг друга Живому Богу Единородным Его предадим.
И епископ, молясь, пусть говорит:
38. Боже духов и всякия плоти, несравнимый и вседовольный, Иже давый солнце во область дне, луну же и звезды во область нощи. Сам и ныне призри на ны милостивными очесы, и приими утренняя наша благодарения и помилуй ны; не бо прострохом руки наши к Богу чуждему, не бо есть в нас бог нов, но Ты вечный и безконечный. Иже еже быти нам Христом подавый и еже благо быти Им даровавый, Сам и жизни вечныя сподоби нас Им, с Нимже Тебе слава и честь и почитание, и Святому Духу во веки. Аминь.
И диакон пусть говорит: преклонитеся к руковозложению. И епископ пусть молится, говоря:
39. Боже верный и истинный, творяй милость в тясащах и тьмах любящим Тя, друже смиренных и нищих предстателю, в Немже вся нужду имут, яко вся работа Тебе. Призри на люди Твоя сия, преклоншия Тебе главы своя, и благослови я благословением духовным, сохрани я яко зеницу ока, соблюди я в благочестии и правде, и сподоби я жизни вечныя о Христе Иисусе, возлюбленнем Отроке Твоем, с Нимже Тебе слава, честь и почитание, и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.
И диакон пусть говорит: изыдите в мире.
А над принесенными начатками пусть благодарит епископ так:
40. Благодарим Тя, Господи Вседержителю, Создателю всяческих и Промыслителю, Единородным Отроком Твоим Иисус Христом, Господем нашим, над принесенными Тебе начатки, не елико должни есмы, но елико можем. Кто бо от человек достойне возблагодарити Ти может о ихже дал еси им ко причастию? Боже Авраамов и Исааков и Иаковль и всех святых, Иже вся созревый Словом Твоим и повелевый земле всяческия израстити плоды в веселие и пищу нашу, Иже давый ума неимущим и блеющим влагу, злакоядущим злак, и овым убо мяса, овым же семена, нам же хлеб к пище полезный и свойственный, и иная различная, ова убо к пользе, ова же ко здравию, ова же к наслаждению. О всех убо сих пре-прославлен еси, о еже ко всем благотворении, Христом, Имже Тебе слава, честь и почитание во Святем Дусе во веки. Аминь.
О почивших же во Христе диакон, по возглашении содержащегося в первой молитве, — чтобы опять не сказать нам того же, — пусть присовокупляет и сие:
41. О почивших во Христе братиях наших помолимся, яко да Человеколюбец Бог, приемый душу его, простит ему всякое согрешение, вольное и невольное, и, милостив и милостивен быв, преведет его в страну благочестивых, покоющихся в недре Авраама и Исаака и Иакова, со всеми иже от века благоугодившими Ему и сотворившими волю Его, отонуже отбеже болезнь и печаль и воздыхание.
Востанем.
Сами себе и друг друга Вечному Богу Словом, Еже в начале, предадим.
И епископ пусть говорит:
Иже естеством безсмертный и нескончаемый, от Негоже всяко без-смертное и смертное бысть, иже словесное животное человека гражданина мира смертна в устроении сотворивый и безсмертие обетовавый, Иже Еноху и Илии испытание смерти прияти не попустивый, Боже Авраамов, Боже Исааков и Боже Иаковль, не бо мертвых, но живых Бог еси, зане всех души у Тебе живут и праведныхдуси в руке Твоей суть, ихже не прикоснется мука, вси бо освященнии под руками Твоими суть. Сам и ныне призри на раба Твоего сего, егоже избрал еси и приял еси в ин удел, и прости ему, аще что вольно или невольно согреши, и ангелы ми-лостивны представи ему, и вчини его в недре патриархов и пророков и апостолов и всех, иже от века Тебе благоугодивших, идеже несть печаль, болезнь и воздыхание, но место благочестивых покойно и земля правых тебе освященна, и иже на ней видящих славу Христа Твоего, Имже Тебе слава, честь и почитание, благодарение и поклонение во Святем Дусе во веки. Аминь.
И диакон пусть говорит: преклонитеся и благословитеся. И епископ пусть благодарит о них, говоря сие:
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, еже стяжал еси честною кровию Христа Твоего, паси их под десницею Твоею и покрый их под крыле Твоя, и даждь им подвигом добрым подвизатися, течение скончати веру соблюсти непревратно, непорочно, незазорно, Господем нашим Иисус Христом, возлюбленным Отроком Твоим, с Нимже Тебе слава, честь и почитание, и Святому Духу во веки. Аминь.
42. [1] Совершайте же третины почивших в псалмах, чтениях и молитвах, ради Воскресшего в третий день, и десятины, в воспоминание сущих здесь почивших, и сорочины — по древнему образцу, — ибо так народ израильский оплакивал Моисея, — и годины, о памяти почившего. И пусть раздают из имения его нищим в поминовение его.
43. [2] Но это говорим о благочестивых; а что касается нечестивых, то хотя бы ты дал за них нищим все блага Mиpa, никакой не принесешь пользы нечестивцу; ибо кто при жизни был врагом Божиим, тот, явно, враг же Божий и по преставлении, потому что у Бога нет неправды, ибо Господь праведен и возлюбил правду [Пс. 10:7], и: се человек, и дела его [Ис. 62:11].
44. [3] Когда же позовут вас на памяти их, то вкушайте с благочинием и страхом Божиим, как могущие и предстательствовать о преставившихся.
[4] Будучи пресвитерами и диаконами Христовыми, вы всегда должны быть трезвы и для себя, и для других, чтобы могли вы вразумлять безчинных. Писание же говорит: сильный гневливи суть, вина да не пиют, да напившеся не забудут мудрости, и право судити не возмогут [Притч. 31:4.5]; а пресвитеры и диаконы, после Бога Вседержителя и возлюбленного Сына Его, подлинно суть сильнии Церкви. Говорим же это не для того, чтобы они не пили, — ибо не пить значит оскорблять созданное Богом для веселия, — но для того, чтобы они не упивались; ибо Писание не сказало: «не пить вина», но что говорит: не пей вина в пьянство [сн. Сир. 31:29.31, Притч. 23:31], и опять: терния прозябают в руце пияницы [Притч. 26:9]. Говорим также это не о тех только, кои в клире, но и о всяком верном христианине, на котором наречено имя Господа нашего Иисуса Христа; ибо и народу сказано: кому горе? кому молва? кому горести и свары? кому сини очи? кому сокрушения вотще? Не пребывающим ли в вине и назирающим, где пирове бывают? [Притч. 23:29.30].
45. [5] Гонимых за веру и бегающих из города в город, памятуя слова Господа [Мф. 10:23], принимайте; ибо, зная, что дух бодр, а плоть немощна, они бегают и позволяют расхищать имение свое, чтобы соблюсти в себе имя Христово без отречения. Подавайте им нужное, исполняя заповедь Господню.
46. Сие же все мы сообща заповедуем:
[1] Каждый должен пребывать в данном ему чине и не преступать пределов, ибо они не наши, но Божий. Слушающий вас, говорит Господь, Меня слушает, и слушающий Меня, слушает Пославшего Меня; и отвергающийся вас, Меня отвергается, а отвергающийся Меня, отвергается Пославшего Меня [Лк. 10:16]. Если бездушные создания, как то: ночь, день, солнце, луна, звезды, стихии, времена, месяцы, седмицы, дни, часы, сохраняют благочиние и исполняют предназначение свое, как сказано: предел положил ecu, егоже не прейдут [Пс. 103:9], и опять, о море: положих же ему пределы, обложив затворы и враты, рек же ему: до сего дойдеши, и не прейдеши [Иов. 38:10.11]; то во сколько более вы не должны дерзать превращать определенное нами вам по мысли Божией?
[2] Но поелику многие и это почли не необходимым и дерзают сливать чины и потрясать рукоположение, совершенное над каждым, сами похищая себе не данные им достоинства и самовластно предоставляя себе то, на даяние чего не имеют они власти, и тем прогневляют Бога, как кореяне и царь Озия, которые не по достоинству и без Бога поставили себя в первосвященство, за что первые сожжены огнем, а последний поражен проказою на челе, раздражают и Иисуса Христа постановившего, опечаливают также и Духа Святого, упраздняя Его свидетельство; то, предвидя опасность, предстоящую делающим таковое, и небрежение в жертвах и благодарениях от того, что они нечестиво приносятся теми, кем не должно, и кои честь первосвященническую, объемлющую подражание Великому Первосвященнику Иисусу Христу, Царю нашему, считают шуткою, справедливо внушаем по необходимости, — ибо некоторые совратились уже вслед своей суетности, — и следующее.
Говорим: Моисей, раб Божий, с которым беседовал Бог лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим, которому сказал Он: Я знаю тебя больше всех [Исх. 33:11.17], с которым беседовал Он лично, а не чрез неизвестное или сновидения или ангелов или в загадках [Числ. 12:8], — Моисей, когда постановлял божественное законопложение, то разграничил, что должно быть совершаемо первосвященниками, что священниками, что левитами, каждому назначив собственную и приличную его служению службу, так что, что повелено было совершать первосвященникам, к тому непозволительно было приступать священникам, а что определено было священникам, к тому не должны были приступать левиты, но каждый сохранял предписанные служения, какие получил, а если кто покушался выступить за предел преданного, то наказывался смертию. Это доказал особенно опыт с Саулом, который, вздумав принести жертву без пророка и первосвященника Самуила, навлек на себя грех и неотвратимое проклятие, и не убедил пророка помазать его в царя. Самым же очевидным действием доказал это Бог случившимся с Ози-ей, когда немедленно наказал его за его беззаконие, и возбесившийся против первосвященства стал чужд и царства.
А бывшего при нас вы, конечно, не незнаете. Вам совершенно известно, что мы молитвою и возложением рук нарекли епископов и пресвитеров и диаконов, которые различием имен показывают и различие дел; ибо у нас не желающий наполнял руку [3 Цар. 13:33], как в поддельном лживом священстве при телицах в царствование Иеровоама, но призываемый Богом. Ибо, если бы не было никакого закона и различия чинов, то достаточно было бы, чтобы всё совершалось одним именем. Но, научившись последованию дел от Господа, мы назначили епископам свойственное первосвященству, пресвитерам — свойственное свя-. щенству, а диаконам — свойственное служению при тех и других, чтобы относящееся к богоугождению совершалось чисто.
Ибо ни диакону непозволительно жертву приносить, или крестить, или совершать благословение, малое или великое, ни пресвитеру — совершать рукоположения; ибо несправедливо превращать чин, потому что Бог не есть Бог неустройства, чтобы низшие самовластно присвояли себе принадлежащее высшим, выдумывая новое законоположение на зло самим себе, не зная, что им трудно идти против рожна. Таковые воюют не с нами или епископами, но с Епископом всего и Первосвященником Отца Христом Иисусом, Господом нашим. Ибо боголюбезнейшим Моисеем поставлены первосвященники, священники и левиты, а Спасителем нашим мы — тринадцать апостолов, апостолами же — я, Иаков, и я, Климент, и с нами другие, — чтобы опять не перечислять всех, — сообща же всеми нами — пресвитеры, диаконы, иподиаконы и чтецы.
Итак, первый по естеству Первосвященник, Единородный Христос, не Сам похитил Себе честь, но поставлен Отцом. Он, ради нас соделав-шись человеком и принося Богу и Отцу Своему духовную жертву, до страдания только нам постановил делать сие, хотя с нами были и другие из уверовавших в Него, а не так, будто как скоро уверовал кто, то и стал уже священником или получил достоинство первосвященническое. Когда же Он вознесся, мы, принося по Его же постановлению чистую и безкровную жертву, избрали епископов и пресвитеров и семь диаконов. Из сих один был Стефан, блаженный мученик, не отставший от нас в благорасположении к Богу. Он такое показал благочестие в вере и любовь к Господу нашему Иисусу Христу, что отдал за него и душу, быв побит от убийц Господа иудеев каменьями. Однако он, таковый и толикий муж, горевший духом, видевший Христа одесную Бога и небесные двери отверстыми, нигде не являлся пользовавшимся тем, что не относится к диаконству, или жертву приносившим, или возлагавшим на кого-либо руки, но до конца соблюл чин диаконства, ибо так приличествовало мученику Христову сохранить благочиние.
Если же некоторые ссылаются на диакона нашего Филиппа и верующего брата Ананию, из коих тот крестил евнуха, а сей меня, Павла; то они не понимают, что мы говорим. Мы сказали, чтобы никто не похищал себе священнического достоинства сам, но или получал его от Бога, как Мелхиседек и Иов, или от первосвященника, как Аарон от Моисея; а Филипп и Анания не сами выбрали себя, но избраны Первосвященником Христом, несравнимым Богом.
Вот что постановили мы вам, епископы, о канонах! Если вы пребудете в этом, то спасетесь и будете иметь мир, а если не подчинитесь этому, то накажетесь и будете иметь всегдашнюю войну между собою, неся приличное наказание за непослушание.
Бог же, Единый Нерожденный и Творец всего, всех вас соединит миром во Святом Духе, уготовив на всякое доброе дело непревратными, непорочными, незазорными, и сподобит вечной жизни с нами, ходатайством возлюбленного Строка Своего Иисуса Христа, Бога и Спасителя нашего, с Которым слава Ему, Сущему над всем Богу и Отцу, во Святом Духе Утешителе, ныне и присно и во веки веков! Аминь».
2. Присовокупляем же к слову: не всякий пророчествующий преподобен, и не всякий изгоняющий бесов — свят. Так, пророчествовал и вещун Валаам, сын Веоров, хотя был нечестив [Числ. 23.24]; пророчествовал и Каиафа, лжеименный первосвященник [Ин. 11:51]; многое предрекают и диавол и бесы его, но от этого в них нет и искры благочестия; ибо они объяты неведением по добровольному развращению. Итак, явно, что ни нечестивые, хотя бы пророчествовали, не покрывают нечестия своего пророчеством, ни изгоняющие бесов не делаются преподобными от того, что бесы выходят; ибо они обольщают друг друга подобно тем, кои показывают шутки для смеха, и губят тех, кои обращают на них внимание.
Но и царь нечестивый не есть уже царь, но тиранн; и епископ, объятый неведением или зломыслием, не есть уже епископ, но ложно носит имя это, — не Богом избран он, но людьми, как лжепророки Иеросалимские Анания и Самей и Вавилонские Седекия и Ахав [Иер. 28:1, 29:22.31]. Но и вещун Валаам понес наказание за растление Израиля в Веелфегоре, и Каиафа сделался впоследствии самоубийцею, и сыновья Скевы, покусившиеся изгонять бесов, избитые ими, со стыдом убежали [Деян. 19:14-16], и нечествовавшие цари Израильские и Иудейские понесли всяческие наказания. Явно, что не избежат наказания от Бога лжеименные епископы и пресвитеры. Им и ныне сказано будет: вы священники, безславящие имя Мое [Мал. 1:6]: предам вас на убиение, как Седекию и Ахава, которых царь Вавилонский, как говорит пророк Иеремия [Иер. 29:22], пек на огне.
Сие же говорим не потому, будто уничижаем истинные пророчества, ибо знаем, что они совершаются в преподобных по вдохновению Божию, но для того, чтобы обуздать дерзость высокомерных, и присовокупляем, что у таковых Бог отнимает благодать; ибо гордым Бог противится, смиренным же дает благодать [Притч. 3:34]. Да, Сила и Агав, пророки нашего времени [Деян. 15:32, 21:10], не сравнивали себя с апостолами и не преступали пределов своих, хотя и были любимы Богом. Пророчествовали также и женщины, как в древности Мариам, сестра Моисея и Аарона, а после нее Деворра, а после них Олдама и Юдифь [Исх. 15:20, Суд. 4:4,4 Цар. 22:14, Иудиф. 8:1-34], та при Осип, а эта при Дарий; пророчествовала также и Матерь Господа, и сродница ее Елиса-вета, и Анна, а в наше время дочери Филиппа [Лук. 1:41.46, Деян. 21:9]. Однако, они не превозносились над мужчинами, но сохраняли свои пределы. Итак, если кто и между вами, мужчина или женщина, сделается причастным какой-либо таковой благодати, да смиренномудрствует, чтобы благоволил к нему Бог. Ибо на кого, говорит Он, воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущаго слов Моих [Ис. 66:2].
«26. Итак, удерживайтесь, епископы и народ, от всех еретиков, охуждающих Закон и пророков. Ибо они, враждуя против Бога Вседержителя, не веруют, и не исповедуют, что Христос есть Сын Божий; ибо рождение Его по плоти отвергают, креста Его стыдятся, страдание и смерть Его безславят, воскресения Его не признают, Его рождение предвечное отметают. Некоторые же из них иначе нечествуют, воображая, что Господь есть простой человек, думая, что он состоит только из души и тела. Иные же из них, опять, охуждают некоторые снеди, — брак и чадородие называют злом и выдумкой диавола, и, по лукавству своему, не хотят, потому что нечестивы, воскреснуть из мертвых, почему и воскресения не признают, говоря: «мы чистые и святые, есть и пить мы не хотим», и воображая, что воскреснут из мертвых подобными безплотным духам. Все они осуждены будут на веки на вечный огонь. Бегайте от них, чтобы не погибнуть вам вместе с нечестиями их»